
Рекомендую прочитать:
Эсфирь Гуревич
Полевая почта 43177Д
В. В. Зиновьева
Письма с фронта
от Павла Лёвина
Воспоминания фронтового хирурга
В. В. Зиновьева (Терёшкина)
Я одна из тех, кому пришлось в меру своих возможностей участвовать в Отечественной войне, и пишу о том, что крепко хранит моя память. Это и обстановка и образы окружавших меня людей. Всё это воспринималось не только зрительно, но и сердцем, со страданием души. С состраданием к тем, ранения которых ставили под угрозу их жизни. Поэтому в воспоминаниях речь идёт чаще о молодых людях, которые в жизни ничего не успели узнать, кроме войны.
Пишу для живущих ещё соратников-медиков, для раненых, чтобы могли ещё раз вспомнить о годах лихолетия. Для молодого поколения, которое не знает войны, но которому предстоит хранить мир, чтобы война никогда не повторилась.
Несколько слов о себе. Я была обыкновенным ребёнком, не выделялась ни особыми способностями, ни уникальной памятью. Даже училась не очень успешно. Я занималась тем, что мне нравилось. И это в основном зависело от учителей. Если они умело, интересно, с душой преподносили свой материал, меня это завораживало, и я преуспевала по их предмету. Это были арифметика, алгебра, геометрия, физика, география и даже рисование. Не любила грамматику, с литературой обстояло лучше. Иностранные языки не давались сразу, а терпения их учить не хватало. Имело значение и то, что мне пришлось учиться с детьми старше меня по возрасту, и я не могла охватить всего, что нам преподносили учителя.
В тринадцатилетнем возрасте у меня обнаружили на пальце правой стопы какую-то опухоль и положили на операцию в больницу. Я тогда ничего сама понять не могла, но раз сказано врачом и родители согласны на операцию, я легла.
Меня ввели в операционную. Я лежала на столе и наблюдала, как врач и операционная сестра (она же давала наркоз) готовились к операции. На меня сам вид операционной, врач и сестра произвели необыкновенное впечатление, и я решила: "Хочу так работать!". Эта мысль запала мне в душу, но я хранила её только для себя, так как нельзя было предположить, что моё решение может осуществиться при моих "заслугах" в школе.
При этой операции я увидела и хорошее и плохое. Хорошее - это работа хирургов. Но я увидела и плохое. Дело в том, что после операции, уже лёжа в палате, я долго не просыпалась от наркоза. У моей постели сидела та операционная сестра, которая давала мне наркоз. А ей давно уже надо было быть дома, и это её нервировало. Я очнулась от сильной боли в ране и спросила сестру, почему так больно. Она, увидев, что я, наконец, проснулась, резко сказала: "Так должно быть!", и ушла из палаты. А у меня ручьями потекли слёзы от обиды, что меня никто не пожалел, ведь я была ещё ребёнком. Тогда ко мне подошли женщины, соседки по палате, и стали меня успокаивать. Они повторили мне слова, сказанные сестрой, но другим, ласковым тоном, и я успокоилась.
Этот случай оказался для меня первым уроком в моей будущей врачебной деятельности и на все её годы. Я была очень внимательна к своим больным, сочувствовала им, и это помогало быстро найти с ними контакт, очень важный в процессе лечения.
Между тем средняя школа, тогда девятилетка, была закончена. Дальше предстояло выбирать себе жизненный путь. Я мечтала получить медицинское образование, чтобы осуществить свою мечту - стать хирургом.
Но всё оказалось не так просто. Надо было заработать трёхгодичный стаж рабочего, чтобы быть допущенной до экзаменов и быть зачисленной в институт. И вот с 1930 по 1933 год я работаю на Пензенском номерном (военном) заводе, сначала браковщицей деталей, потом, после учёбы в ФЗУ - токарем по металлу.
Стаж заработан, отослано заявление в I Московский Медицинский институт. В августе 1933 сданы все экзамены, но зачисляют меня на санитарно-гигиенический факультет (вновь созданный). Как сказали в приёмной комиссии "по ошибке", обещая со второго полугодия I курса перевести на лечебный факультет. Кого-то из нас перевели, но ... не меня.
Общая подготовка на первых двух курсах одинаковая для обоих факультетов. С третьего курса начинаются клинические дисциплины, в том числе и по хирургии.

|
С первых же занятий по хирургии на санитарно-гигиеническом факультете учёба оказалась более интересной и содержательной, чем на лечебном факультете. В этом была заслуга всего коллектива кафедры, начиная с возглавлявшего кафедру профессора Вениамина Романовича Хесина и всех его ассистентов, великолепных врачей и преподавателей, сумевших заинтересовать и заставить полюбить одну из сложнейших дисциплин, даже тех, кто никогда и не думал о работе хирурга. На кафедре был организован научный студенческий кружок. На первом его заседании я делала доклад "О перитонитах". Готовила его с увлечением, перечитала много литературы. Говорили, что доклад был интересен. На четвёртом курсе кружковцы посещали одну из московских больниц - Благушинскую. Заведовал отделением доцент нашей кафедры Ф. М. Лямперт, помощником у него был С. Я. Минц. Впоследствии они стали знаменитыми онкологами. |
Первую показательную операцию мы увидели в хирургической клинике. Вся подготовка к операции и процесс самой операции проходили у нас на глазах. Оперировал один из ведущих хирургов-урологов. Мы наблюдали издалека, и что происходило в раневой полости, видеть не могли. Но вдруг хирург начал бросать на пол операционной инструменты, а операционная сестра подавала ему новые с невозмутимым спокойствием. Видимо, у него что-то не ладилось по ходу операции, он удалял почку. Меня это поразило до глубины души. В чём же была вина помогавшей очень квалифицированной операционной сестры, на которой хирург срывал свои неудачи?
Вот это и был мой второй жизненный урок отрицательного примера. В последующем, уже на кафедре хирургии нас учили уважительному отношению к своим помощникам, что очень важно в процессе выздоровления больного.
Занятия начинались с обхода больных, находившихся в хирургическом отделении. Подробный разбор касался больных, которых предстояло оперировать в этот день. Операции начинались сразу после обхода, и мы все присутствовали на них. Это были типичные операции по поводу хронического аппендицита, паховой грыжи, геморроя в "холодном" периоде. По очереди мы принимали активное участие в операциях, выполняя работу операционной няни, затем операционной сестры, ассистента, оперирующего хирурга и, наконец, оперировали сами с помощью опытных хирургов: ассистентов нашей клиники или ведущих хирургов больницы. Таким образом, будучи ещё только студенткой четвёртого курса, мне посчастливилось сделать свои первые в жизни операции - аппендэктомию, грыжесечение и удаление геморроидальных узлов.
Кроме этого мы имели возможность при желании дежурить в клинике с ассистентами. Все, кто хотел, мог использовать все возможности по углублению своих знаний. Я, конечно, не упускала такой возможности, благодаря чему научилась у нянь и сестёр уходу за больными, а у ассистентов - лечению больных.
Промелькнули пять лет учёбы, напряжённой, но интересной. Выпускные экзамены на санитарно-гигиеническом факультете перенесены на июль месяц, так как прибавили программу по хирургии и терапии ещё на месяц. Это позволило лучше, полнее изучить эти нужные дисциплины, и мы имели возможность подготовиться лучше по другим предметам.
Итак, экзамены сданы, получаю "красный" диплом, но по санитарно-гигиенической специальности. И тут я решила "не предавать" своей хирургии и добилась, что мне дали направление на работу хирургом и, совершенно неожиданно для меня, ординатором на хирургическую кафедру родного института!
Своему счастью я долго не могла поверить! Но была принята всеми сотрудниками кафедры очень тепло и с доверием. И няни и сёстры старательно выполняли любые назначения от своей "ученицы" в студенческие годы. Профессор В.Р.Хесин писал мне из санатория, в котором он отдыхал.
|
Милая товарищ Терёшкина! Только что получил Ваше письмо. Сердечно поздравляю Вас с исполнением того, к чему Вы так стремились. Надеюсь, хирургия даст Вам то удовлетворение работой, которого Вы от неё ожидаете. Занятие хирургией требует огромного труда и выдержки. Зная Вас, уверен, что Вы преодолеете все трудности и будете хорошим врачом-хирургом. Рад и за клинику, которая в Вашем лице получает хорошо нам известного товарища и работника. Нам часто тяжело то, что из наших учеников-студентов никто не остаётся, и к нам приходят люди, которых мы раньше не знали. Для нас Вы давно уже своя. Желаю Вам успеха в дальнейшем движении вперёд Ваш В. Хесин 15 IX.38 |
Он был требовательным и строгим учителем, но и очень добрым человеком. Память о нём и благодарность к нему я храню всю жизнь.
Итак, с 13 сентября 1939 года начались трудовые будни: работа и учёба. Слишком мало я ещё знала и ещё меньше умела. Но жизнь шла своим чередом, и радости и горести сменяли друг друга.
| В середине первого же года моей работы вся больница пережила тяжёлое потрясение. В приёмное отделение был доставлен больной с тяжёлым воспалением лёгких. Осматривал его дежурный ассистент терапевтической клиники доктор Горелик. Благодаря ему, его большому опыту работы и знаниям больница была спасена от катастрофических последствий - многочисленных смертей тех, кто с этим больным мог соприкасаться. Он поставил правильный диагноз больному: "лёгочная чума". Больной был без сознания и сам ничего не мог рассказать о себе. Как выяснилось, его привезли из гостиницы, где он остановился, приехав из Саратова в Министерство Здравоохранения вместе со своим товарищем - врачом-эпидемиологом, с которым они проводили разработку новой вакцины от лёгочной чумы. Проверяли эту вакцину на себе, сделав противочумную прививку. Проведённые эксперименты на животных дали хорошие результаты. Сами профессора-экспериментаторы тоже оба перенесли прививку хорошо. Вот они и приехали в Москву доложить на учёном совете Министерства о результатах своего изобретения и проверки его на себе. Совет заседал в день, когда один из них - профессор Берлин - заболел, почувствовав себя плохо ночью в гостинице. Ухаживала за ним горничная. Она-то и вызвала "скорую", когда ему стало плохо. Больше никто о его болезни не знал. |
 > > |
Больной умер в ту же ночь, когда поступил, прямо в приёмном отделении. Благодаря доктору Горелику его не поместили к больным в отделение терапии, а обслуживание больного он взял на себя. Горелик сообщил о случившемся главному врачу больницы. Были приняты срочные меры по изоляции всех, кто соприкасался с больным.
Все были отправлены под вооружённой охраной в инфекционную больницу на Соколиной горе, где им предстояло пережить карантин в изоляции друг от друга. Буквально в первые дни карантина умерли от лёгочной чумы доктор Горелик, горничная из гостиницы и парикмахер нашего приёмного отделения, случайно оказавшийся поблизости. К счастью всем остальным, соприкасавшимся с больным, а их было двадцать человек, удалось не заболеть и выжить.
Всё отделение больницы было взято на карантин. Оставили минимум персонала для обслуживания больных. Остальных отпустили по домам.
Я работала в гнойном отделении. У лежавших там чаще, чем у других поднималась температура, и мы брали их под особое наблюдение и докладывали о них заведующему отделением и дежурным врачам. В других отделениях все операции были отменены. Связь с внешним миром мы могли поддерживать только по телефону и то очень ограниченно. Всю больницу очень строго охраняли войска МВД. Чтобы не вызвать панику в городе, всё держали в секрете. Карантин был снят только через месяц, вернулись и "затворники" с Соколиной горы. Почему-то к этой теме никто не возвращался. Когда всех отправляли на Соколиную гору, мы образовали живой коридор, по которому все шли. Царила тишина. Когда проходил доктор Горелик, он обратился к своему другу, ассистенту Сергею Павловичу Виноградову: "Прощай, Серёжа! Погибаю за долг врача" Это были его последние слова. Больше о нём никто ничего не говорил. Только наша память хранит образ бесстрашного врача доктора Горелика, спасшего жизнь всем больным и персоналу клиники, а может быть и весь город - от эпидемии.
Работа клиники пошла своим чередом. В течение шести месяцев я работала в палатах, обслуживала больных с заболеваниями органов брюшной полости. Помогала ведущему ассистенту на операциях, или оперировала сама с его помощью. С ним же дежурила по больнице. Ещё через шесть месяцев перешла в палаты с травмами нижних конечностей уже с другим ассистентом. Больным налаживали скелетные вытяжения. Операций почти не было, если только были травмы с комбинированными ранениями мягких тканей.
Меня стали постепенно "приучать к науке". Давали темы для разработки различных заболеваний. Изучали отдалённые результаты ранее лечившихся больных. Это официально не входило в план работы больничных ординаторов, этим занимались аспиранты клиники. Всё это требовало большой затраты дополнительного времени, но вместе с тем давало несомненно большую пользу, расширяло кругозор врача и углубляло знания, так как вместе с обследованием бывших больных приходилось читать много тематической литературы. Результаты работы докладывали на ежегодных врачебных конференциях.
В конце августа 1939 года тяжело заболел мой отец. Он лежал у нас в больнице в терапевтическом отделении. Я сутками не отходила от его постели. 9 сентября 1939 года он умер.
И в тот же день мне вручили повестку военкомата о призыве в армию. Началась война с Польшей. Мне дали отпуск на три дня для похорон отца, но зачислили меня в штат военного госпиталя, который формировался в Москве. В ожидании отправки на фронт мы находились на казарменном положении. Отпускали домой только на ночь с 12 до 6 утра. Через месяц в одну из ночей нас не отпустили и отвезли на вокзал для отправки в Польшу. Но в этот же день было объявлено об окончании войны. В результате её к СССР перешли три прибалтийские республики.
Я вновь вернулась на работу в клинику, уже в отделение гнойной хирургии. Получила новую тему для научной работы: "Обмен витамина "С" у гнойных больных" - тему для кандидатской диссертации. Это было уже серьёзнее и ответственнее.
И вновь перерыв в работе. 29 сентября 1939 года началась война с Финляндией. Вновь призыв в армию и отправка в район Ленинграда с военным госпиталем, который дислоцировался у эстонской границы в городе Кингисеппе. Расположили нас в зданиях военного гарнизона. Военные, служившие в гарнизоне, в полном составе были отправлены на фронт в первые же дни войны. В гарнизоне оставались лишь их семьи.
 Я - военврач III ранга Валентина Терёшкина |
Поступали к нам раненые из ленинградских госпиталей, в которых работали хирурги из нашей клиники. Раненые были с тяжёлыми, требующими долечивания ранениями. В марте 1940 года вернулись с фронта оставшиеся в живых служащие военного гарнизона, а госпиталь прекратил своё существование. Однако отпустили нас только в начале мая, и мы все вернулись в клинику. Это был первый опыт работы с ранеными на фронте солдатами и командирами. После отпуска я стала работать с урологическими больными. В первых числах января 1941 вновь приказ из военкомата с направлением на четырёхмесячные курсы хирургов по военно-полевой хирургии. На них были собраны ведущие хирурги из многих городов страны - Минска, Ростова-на-Дону, Горького и других. Почему на эти курсы попала я, не знаю. Но занятия на них дали мне много полезного для работы в дальнейшем, так как кроме лекций мы проходили практическую работу в институте Склифосовского. Им руководил тогда профессор Юдин. Травматологию вела профессор В.В.Гориневская, по учебнику которой учились все врачи. Курсы закончились к маю 1941 года. |
Вновь включилась в работу в клинике - в палатах, в операционной. Стала вести самостоятельные дежурства в больнице. Поддежуривал обычно кто-то из ассистентов, с которыми я могла проконсультироваться по телефону.
21 июня 1941 года в субботу был обычный рабочий день. У меня было самостоятельное суточное дежурство. Вечером сделала обход всего отделения. Особенно тяжёлых больных не было. Послеоперационные чувствовали себя нормально. Ночь тоже прошла спокойно, экстренных операций не было. Утром 22 июня вновь сделали обход вместе с врачом, принимавшим у меня дежурство. Записала дневники и собиралась идти домой.
Вдруг в клинику пришел доктор Л.Б. Шапиро, всегда спокойный, в тот необычный приход он был явно чем-то обеспокоен. Он сказал, что в 12 часов по радио должен будет выступить Молотов (министр иностранных дел) с очень важным сообщением. К этому времени в клинику стали подходить все сотрудники отделения, пришёл и профессор Хесин.
Радиоточка была только в ординаторской. Все там и собрались. Ровно в 12 часов прозвучал голос Молотова, и мы все узнали, что началась война с фашистской Германией, что её передовые части уже вступили на территорию СССР, в западной части, и что наша армия вступила в бой. Значит победим! Ведь перед войной мы все жили по принципу: "войны мы не хотим, но к бою готовы". У молодого поколения у многих на груди были значки "Готов к труду и обороне", "Ворошиловский стрелок". У девушек-студенток вузов - значки "РОККовская медсестра", которые они получали, пройдя шестимесячные курсы в своих институтах. Я сама некоторое время "приобщала их к медицине", заменяя товарища-хирурга, ушедшего в отпуск. (РОКК - Российское общество Красного Креста)
Теперь и наша клиника начала подготовку к работе в условиях войны. Профессор В. Р. Хесин, врач с большим хирургическим опытом, был участником предыдущих войн с 1917 года и активным организатором молодой советской медицины. За это он получил Орден Ленина, но из-за скромности никогда его не демонстрировал.
Первым, что было приказано нам сделать, это создать запасной фонд свободных мест. Мы выписали из клиники всех больных, не нуждавшихся в срочных операциях или уже поправившихся после них. Остались лишь свеже-оперированные больные, или которым предстояла неотложная операция, в основном - раковые.
Мы уже знали из опыта Польской и Финской войн, что все молодые военнообязанные хирурги будут срочно мобилизованы в армию, а в клинике останутся 3 - 5 пожилых работников, которым придётся взять на свои плечи и преподавательскую работу со студентами и лечение больных из гражданского населения и, возможно, военных с ранениями на фронте. Впрочем, это всё так и было в 1941, 42 и 43 годах.
Простившись с товарищами, мы разошлись. Домой пришла вечером. Меня уже ждала повестка из военкомата: "23.VI.41 явиться на сборный пункт с вещами", во второй половине дня в здание школы, расположенной на соседней улице. Дома моя тётя Маня, с которой я жила, уже приготовила мне заплечный вещевой мешок, в котором лежала запасная смена белья, маленькое байковое одеяльце и ... плитка шоколада и кусок сухой копчёной колбасы - мой "мобилизационный запас". Что такое война, тётя Маня знала лучше меня, очень волновалась за меня, так как уже потеряла единственного сына в Гражданскую войну.
В указанный срок мы были на сборном пункте, прошли регистрацию, и около полуночи целая группа была направлена на Белорусский вокзал. В одном из залов мы увидели объявление о сборном пункте, а там - знакомые лица врачей из нашей клиники. Все мы жили в разных районах Москвы, состояли на учёте в разных военкоматах и все получили направление к западным границам страны.
Был сформирован специальный эшелон для командирского состава, куда входили также медицинские работники, инженеры различных специальностей, политработники и другие, всего около 1000 человек. Эшелон состоял из товарных вагонов со специально приспособленными двухъярусными нарами, сплошными, так что размещались все "вповалку". Никаких удобств, конечно, не было.
Все сгруппировались по "специальностям". У всех были свои "конечные точки следования", ближе к конечному пункту следования эшелона. У меня это был город Пинск, я должна была стать ординатором Пинского военного госпиталя. У хирургов нашей клиники назначения были разные, некоторым указывали лишь номер части. У моей подруги-аспирантки, с которой мы были очень дружны, было направление в другую часть, и мы об этом очень жалели. Но пока мы были вместе, она очень заботилась обо мне в дороге (впрочем, и в довоенное время тоже).
Эшелон продвигался сначала очень быстро, потом сбавил скорость, чаще стали вынужденные остановки. Доплелись до Орши и встали ... Дальше дороги не было. Как выяснилось, фашисты к этому времени уже захватили пограничные районы, всю Белоруссию, Украину и в своём "марш-броске" подошли к Борисову и Орше. Там, где их не было, они продолжали активную бомбардировку с воздуха, разрушая в первую очередь железнодорожные и шоссейные пути. Систематически бомбили депо, уничтожая подвижной состав. Отступавшие, наши разрозненные части, шли пешком по разрушенным дорогам. Так мы встретились со студентами Минского мединститута. Они были мобилизованы, но не могли попасть в части, куда их направили. В первые часы войны были призваны работники хирургических клиник, с которыми мы были на курсах в Москве перед войной. Дальнейшую их судьбу мы не знали.
Нам предстояло провести ближайшую ночь в Орше. Местные жители посоветовали нам в эшелоне не оставаться, так как каждый день под утро фашисты бомбили станцию. Мы отошли от станции за огороды и провели ночь в открытом поле. Рано утром наш эшелон направили через Витебск, где тоже готовились к встрече с врагом.
Особенно активно вели себя учащиеся младших классов начальных школ города. Они вылавливали "вражеских шпионов - разведчиков". В их внимание попала одна из наших врачей. У неё под обычным тогда ещё гражданским платьем были видны физкультурные тренировочные рейтузы. Ребята окружили её плотным кольцом и направились в отделение милиции, где должны были установить её принадлежность к шпионам. Дел у милиции было и без того много и до неё "руки не доходили". Наш эшелон уже должен был отходить, на помощь попавшему в беду товарищу отправился начальник нашего эшелона и выручил её из милиции.
Дальше поехали на Москву без остановок. Таким образом, через десять дней "путешествия" мы вновь оказались в Москве. Всех медиков выделили в особую группу и разместили в школьном здании в Астраханском переулке. Удалось даже побывать дома.
Отдельная Рота Медицинского Усиления ОРМУ-20
Утром следующего дня уже с Курского вокзала нас отправили в Орёл. Это были первые числа июля 1941 года, шла война.
В Орле в эти дни было относительно спокойно, но обстановка была прифронтовая. Фашистская авиация в это время массировано бомбила Курск, каждое утро над Орлом пролетало много самолётов со смертоносным грузом, но Орёл не бомбили. Редко сбрасывали остатки своего груза на обратном пути, в основном это были зажигательные бомбы.

|
Нас в прибывшей из Москвы группе было около тридцати человек. Это были хирурги из институтских клиник, в основном с кафедр I московского Медицинского института, в их числе из нашей клиники четыре человека. Разместили нас в пустом школьном классе. Спали на полу, потом появились матрацы. Всех зачислили во вновь организованное медицинское подразделение, так называемая ОРМУ - Отдельная Рота Медицинского Усиления. Подчинялась она Медицинскому управлению фронта и обслуживала все принадлежащие ему медицинские подразделения. Так, мы должны были быть прикомандированы к ХХ армии, сражавшейся в районе Рославля, наша ОРМУ и носила номер 20. Группы из ОРМУ использовали в качестве необходимой помощи медицинским подразделениям, обслуживающим данную армию. В состав ОРМУ входили отдельные группы опытных хирургов, в каждой - два врача (старший и его помощник), три медсестры - две перевязочных и одна операционная и два санитара. Обычно две группы имели одну грузовую машину - трёхтонку с постоянным шофёром, который и перевозил всех в назначенное место, где нужна была их помощь при большом количестве раненых. |
Для передислокации группам отдавали приказ начальника ОРМУ. Начальником ОРМУ-20 был назначен военврач I ранга Рудаков Н. П., кадровый военный, окончивший в своё время Ленинградскую Военно-медицинскую академию, с большим опытом организационной работы в довоенное время.
Сестринский состав был дополнен военнообязанными из местных военкоматов. Санитары - из военнообязанных старших возрастов. Было прикомандировано 15 грузовых машин - трёхтонок с шоферами.
На организацию нашей роты ушло около двух недель, после чего ОРМУ должна была быть переброшена в район ХХ армии. Вся группа без машин была погружена в железнодорожный состав и отправлена на фронт. Перед отъездом нам выдали противогазы и оружие.
Добрались мы лишь до станции Жуковка, дальше продолжить путь не могли, так как враг находился на подступах к этому району.
Затем был получен приказ, возвратиться в Орёл. Когда прибыли в Орёл, немцы начали бомбить депо. Нас срочно перегрузили в наши машины и отвезли на окраину города. Но в этот же день ближе к ночи наш лагерь подвергся бомбардировке. Сначала сбросили осветительную ракету, которая своим дьявольским светом озарила наш лагерь, "и кто однажды видел это, тот не забудет никогда". Было очень тревожно, даже страшно. Создавалось впечатление, что она освещает именно тебя и делает видимым только тебя. Наш начальник отдал приказ - всем покинуть место стоянки, перейти на другую сторону проходившей мимо сада дороги. Там тянулось большое картофельное поле, спускавшееся к реке. После яркого света от ракеты здесь царила полная темнота, сквозь которую мы и двигались. Потом, обессиленные, мы повалились на землю. Сориентироваться мы смогли только с первыми лучами солнца. Когда мы покинули свой лагерь, и в нём остались только начальник ОРМУ и санитары, с самолётов сбросили зажигательные бомбы, и наши машины начали гореть. Но пожар быстро локализовали.
Пишу всё подробно потому, что для всех нас это были первые впечатления от настоящей войны. Потом нам пришлось пережить много и более страшных событий.
Прежде чем вернуться в наш лагерь, мы стали свидетелями ещё одной трагедии. Было ясное летнее утро, чистое голубое небо, предрассветная тишина. Но вдруг появилась группа немецких бомбардировщиков, летевших бомбить Курск. Их воющий звук огласил окрестности.
И вот наперерез им из-за леса появились три наших истребителя. Они намеревались вступить в бой с врагом, но были встречены пулемётными очередями и все три, объятые дымом и пламенем, упали на родную землю. Такого мне больше не пришлось видеть даже на фронте. Эта картина осталась в моей памяти на всю жизнь.
К вечеру этого же дня вся ОРМУ была погружена на машины и двинулась в путь в направлении Вязьмы. Получили обмундирование. Путь был нелёгким, но не опасным. В первых числах августа 1941 года мы прибыли на место нашей постоянной дислокации. К тому времени Вязьма уже подвергалась бомбардировкам с воздуха, много зданий было разрушено.
Наши несколько групп из ОРМУ-20 на другой же день были отправлены на помощь СЭГ'у на Западном фронте. В дальнейшем наша судьба была связана с ним. Что такое СЭГ? Это фронтовой сортировочный эвакуационный госпиталь.
Немного истории. Начиная со времён Петра Первого, когда России приходилось воевать, стали оказывать первую помощь раненым на поле боя, перевязывали раны. Делали это специально обученные санитары, которые имели при себе сумки с перевязочным материалом. Они же выносили раненых с поля боя в определённые места, где им оказывали возможную помощь. Постепенно с годами она развивалась, совершенствовалась и достигла современного уровня.
Необходимость отправки раненых в тыл для лечения дальше от линии фронта была очевидна. Особенно настойчиво это внедрял знаменитый врач-хирург Н. И. Пирогов в Крымскую войну в середине XIX века. Эвакуация осуществлялась во все последующие войны, в которые была вовлечена Россия, вплоть до последней - войны с Финляндией в 1940 году. Но осуществлялась она хаотично, "кто как мог и умел". Это приводило к большим потерям, смертям или тяжёлым осложнениям ран во время эвакуации в тыловые госпитали. Поэтому к началу Отечественной войны 1941 - 1945 годов уже имелся разработанный план эвакуации, начиная с передовых медучреждений - полковых, дивизионных, армейских - через фронтовые Сортировочные эвакуационные госпиталя (СЭГи). Такие госпиталя создавали по одному на каждом фронте для обслуживания раненых этого фронта.
В прифронтовой тогда Вязьме создавался первый сортировочный эвакогоспиталь Западного фронта.
 Начальник СЭГ-290 от начала работы в 1941 г. до расформирования в 1945 г. - полковник медицинской службы Вильям Ефимович Гиллер |
Начальником госпиталя был назначен корпусной врач Вильям Ефимович Гиллер, тогда военный врач второго ранга. К началу войны 41-го года у него был семилетний стаж организационной и лечебной работы в армии. Принцип работы СЭГа был определён и спланирован заранее. Непременными требованиями для его работы были:
Осуществить план организации огромного эвакогоспиталя оказалось непросто. В прифронтовой разбитой бомбардировками Вязьме не было ни нужного помещения, ни подъездных путей для эвакуации, ни штата медицинского персонала. |
Зато у Гиллера были отличные помощники: зам. по политчасти Г. Т. Савинов, главный хирург госпиталя военврач второго ранга М. Я. Шур, помощник по материально-техническому снабжению И. А. Степашин. Постепенно был подобран и врачебный штат госпиталя.
Всё требуемое, конечно, не могло быть обеспечено в прифронтовой Вязьме в июле 1941 года. Поэтому СЭГ расположили в трёх километрах от Вязьмы, недалеко от станции "Вязьма-Новоторжское", на территории маслозавода, эвакуированного в тыл в первые дни войны. Многие его постройки сохранились, сам завод был закрыт и охранялся вооружённой охраной. Главное, не была повреждена железнодорожная ветка, так необходимая СЭГу для эвакуации раненых в тыл, на Москву. В двух больших складских помещениях организовали две перевязочных: для ходячих раненых и носилочных. Операционный блок расположился в здании довоенного гарнизонного госпиталя рядом с маслозаводом. Здесь мы и начали свою работу в июле 1941 года.
Сортировка по тяжести ранения начиналась уже при доставке раненых. Их осматривали врачи и их помощники - фельдшеры и определяли, куда их направить. В первую очередь выделяли группу легко раненых и направляли их в госпиталь для легко раненых (ГЛР), расположенный в прифронтовой зоне. Они не подлежали эвакуации в тыловые госпиталя. В СЭГе они проходили предварительный осмотр. Для этого имелась специальная перевязочная для ходячих раненых. Всех остальных - тяжёлых и носилочных раненых направляли в сортировочное отделение, где подвергали санитарной обработке - мыли, переодевали в чистое бельё и отправляли в специализированные отделения (с проникающими ранениями в грудную и брюшную полость, черепа, челюстно-лицевые). Раненых с открытыми переломами нижних конечностей выделяли в особое отделение. Все отделения имели свои перевязочные для предварительного осмотра, а также необходимые службы для обследования - лаборатория, рентген. Для требующих повторных вмешательств при вторичных осложнениях и временно нетранспортабельных имелись стационарные койки.
Специализированных санитарных поездов со своим оборудованием и медперсоналом, обслуживающим раненых в пути, было очень мало. Приспосабливали обычные товарные вагоны, устраивали в них койки-нары, отопление и прочее. На время следования эшелона прикрепляли врачей, сестёр и санитаров. В их обязанности кроме питания и обслуживания входило следить за общим состоянием раненого и в случае резкого ухудшения здоровья снимать его с поезда и направлять в стационары по пути следования.
В начале августа стояла тихая солнечная погода, и все поступавшие раненые располагались под открытым небом, ожидая обработки. С приближением осени назревала острая необходимость в дополнительных помещениях. Такими могли быть землянки. Их строили на территории госпиталя в расчёте на 25 - 30 человек.
В перевязочных работали только несколько групп нашей ОРМУ-20. Наши две группы москвичей и ещё одна - из Ростова-на-Дону. Наша бригада должна была обслуживать только носилочных раненых с открытыми переломами нижних конечностей.
Мы занимали склад, который располагался в одноэтажном здании с каменными стенами, выкрашенными внутри белой краской, и асфальтовым полом. Небольшие не открывающиеся окна располагались высоко под потолком, днём пропускали света достаточно для работы. Ночью работала передвижная электростанция.
Само помещение было большим, делилось на две половины. В одной размещались раненые, поступавшие на перевязку, в другой - уже обработанные, готовые к эвакуации. В перевязочной стояло восемь перевязочных столов и один общий инструментальный стол, за которым работала операционная сестра. К каждому врачу прикреплялась перевязочная сестра и санитары из ОРМУ, которые активно помогали сёстрам при наложении шин, а затем гипсовых повязок. Рабочий день равнялся двенадцати часам, но условно, так как постоянная перегрузка требовала его удлинения, даже за пределы возможного. Никаких перерывов, выходных, отпусков, конечно, не было. Всё регламентировалось одним словом "надо!".
Сама работа никогда не была в тягость. Ведь перед тобой лежал тяжело страдающий от ранения человек, чудом спасшийся от смерти и которому предстояло ещё многое вынести, чтобы выжить. А за его плечами стояли ещё страх и ужас, от которых не избавлен ни один человек. Ему надо было пережить и собственную боль, и гибель на его глазах товарищей по оружию.
Что, безусловно, поддерживало нас, так это то, что все были союзом единомышленников, все стремились сделать свою работу как можно лучше, чтобы не причинять лишних страданий раненому, помогали друг другу. Поэтому и работали мы быстро и могли обслужить больше раненых. Усталость сказывалась позже и быстро проходила: бессонницей никто из нас не страдал.
Война в корне меняла обычную жизнь любого человека мирного времени. Надо было приспосабливаться к новым требованиям и условиям военной жизни. Это требовало энергии и выносливости. Более сильные натуры приспосабливались быстрее, труднее было молодёжи и женщинам. Бытовые условия были далеки от желаемого, но это уже мелочь. Первое время мы жили близко от госпиталя, и дорога нас не обременяла. Рядом с маслозаводом проходила автотрасса, вдоль которой стояли деревянные дома местных жителей. В одном из них мы все и жили. Хозяйка с удовольствием устроила нас в своей лучшей комнате, так как это избавляло её от временных постояльцев.
Трасса была оживлённой, по ней всё время двигались военные части к линии фронта и обратно. В сентябре это движение возросло, и мы вынуждены были сменить место своего пребывания. Более спокойным местом оказалась деревня в трёх километрах от маслозавода. Там же постоянно находилась автомашина нашей группы ОРМУ. Всё меньше оставалось времени для отдыха, и мы редко тратили его на дорогу, оставаясь в перевязочной (за счёт нормального сна). "Спокойная" жизнь нашего госпиталя была недолгой. Вражеские самолёты быстро заприметили наш "лагерь", к которому непрерывно следовала вереница автомашин, подвозивших раненых.
И вот среди рабочего дня на госпиталь было сброшено несколько бомб. Прямо у стены перевязочной раздался взрыв. Стены выдержали, но взрывной волной вышибло стёкла из наших окон, а стерильные простыни вместе с инструментами операционной сестры оказались на полу. Неожиданность происшедшего сейчас же сказалась на всех присутствовавших в перевязочной. Все легли на пол ближе к стенам здания как к укрытию. Панический страх передавался от одного человека к другому. Из всего, чему нас учили, мы усвоили одно: при бомбёжке ложиться на землю, где стоишь и не перемещаться с места на место. Я стояла у перевязочного стола, на котором лежал раненый с переломом бедра. Мы наложили ему на раны повязки, а шину наложить не успели. У меня невольно подкосились ноги, и мне хотелось опуститься на пол, как делали все окружающие. Но и мой раненый сделал попытку слезть со стола. Я так за него испугалась, что сразу выпрямилась и обратилась к нему со словами: "Куда же Вы, ведь Вы лежите!" В мозгу застряла одна мысль ... "надо лечь". С тех самых пор, всю оставшуюся войну я никогда не отходила от раненого и не делала попытки "лечь". Уж если суждено быть убитой, то это может произойти везде, где бы ты ни находилась. И это всегда помогало мне. А результатом нашего первого испытания был один убитый и несколько раненых из находившихся в это время на дворе. После этой бомбёжки некоторые начали рыть себе щели, где можно было бы укрыться на время следующих бомбежек, и пользовались ими, выбегая из перевязочной. Как говорят, "каждому своё". На первый раз разрядка наступила, когда вспомнили, как один из наших санитаров, здоровенный "орловский мужик" по-пластунски полз в угол перевязочной, где за простынями висели наши шинели, и спрятался за ними. Смеялись все, но это был истерический смех, который и снял напряжение после всего пережитого. Это был первый урок войны, когда возникла реальная опасность для жизни.
После первого налёта вражеской авиации последовали и следующие. В один из них бомба попала в угол землянки, в которой лежали носилочные раненые. Некоторые из них получили вторичные ранения, одного убило. Две дежурившие при них медсестры остались невредимыми, они находились в это время в противоположном углу землянки. Судьба!
Наши родные, проводив своих близких в действующую армию, почти ничего о них не знали, им были известны только номера полевой почты. Строгая цензура не пропускала ни одного письма даже с самыми незначительными подробностями. Шло письмо около месяца и нередко приходило после получения "похоронки".
Моя слепая вера в судьбу, которая меня поддерживала в опасных обстоятельствах, неожиданно "поколебалась" несколько позже, когда в наше отделение была доставлена единственная раненая женщина. Это была военный фельдшер, старшая медсестра из одного медсанбата. Её тяжело ранило во время бомбёжки прямо на рабочем месте. Ранения были множественные и все тяжёлые. Товарищи по работе сделали всё, что было возможно, но избавить её от будущей тяжёлой инвалидности были не в состоянии. Значит, остаться калекой, неработоспособной на всю жизнь. Вот это было бы куда страшнее, чем если бы тебя сразу убило. Значит, судьба так распорядилась во время войны. И всё-таки рабочего места я не покидала, какими бы опасными ни были обстоятельства.
Вернёмся к нашей непосредственной работе. Работа в перевязочной сводилась к следующему: надо было детально осмотреть больного, обработать раны и наложить транспортные шины. Раненые в этот период поступали с карточками передового района, в которых указывался диагноз с локализацией ранения, помощь, которая была ему оказана, в том числе введение (обязательной!) дозы противостолбнячной сыворотки 1500АЕ. Нам предстояло заполнить историю болезни с подробным описанием того, что было сделано ещё до нас. Затем требовалось подробно описать как общее состояние раненого и его ран в момент осмотра, так и осложнения, если возникли. Если осложнение требовало повторной операции или другого лечения, особенно при признаках анаэробной инфекции, мы срочно отправляли раненого в стационарные операционные отделения. В этот период в нашем отделении не было ни стационарных коек, ни операционной. Спокойное течение заживления ран зависело во многом от сделанной на предыдущих этапах обработки ран. Рана должна быть широко рассечена, очищена от осколков, кусков одежды и других посторонних предметов и загрязнений с земли, а это требовалось, как правило, при осколочных и слепых ранениях, частых у наших раненых. Широкое рассечение ран было практически единственным средством предупреждения и борьбы с инфекцией, в первую очередь газовой. Оно было разработано и проверено ещё до войны в учреждениях скорой помощи, например в Москве, в институте Склифосовского, и оправдало себя на фронте.
Я обратила внимание, что в карточках передового района чаще других попадалась фамилия хирурга Слуцкого. Он указывал, что "рана широко рассечена и очищена", и этого было достаточно, так как результат его работы был виден на раненых, поступавших к нам. Его чёткий, красивый почерк так и остался в моей памяти. Уже после окончания войны я навела справки в институте Склифосовского, не работал ли у них до войны врач с такой фамилией. Получила положительный ответ. Дальнейшая его судьба была никому не известна. И мне на длинных дорогах войны он больше не встречался. Так хочется думать, что война его пощадила!
Если при осмотре общее состояние и раны были хорошими, то мы меняли повязки, укрепляли их бинтами. Сложнее было с иммобилизацией перелома. Имелись транспортные шины двух видов: металлические - Крамера, и деревянные - Дитерикса. И те и другие плохо показали себя при имевшихся транспортных средствах эвакуации, сопровождавшейся ещё и частыми перекладками. Металлические - крепились простыми бинтами. Шина Дитерикса имела ещё специальные ремни, удерживающие её на ноге на разных уровнях, но ... до нас ремни просто не доходили, так как были "утеряны" на предыдущих этапах. Поэтому мы укрепляли её тоже марлевыми бинтами, стараясь сделать это тщательно. Шинирование, таким образом, отнимало у нас много времени. В это время в московских клиниках при переломах конечностей применялось скелетное вытяжение, но оно было хорошо только для лечения в стационарах; применялось также наложение гипсовых повязок, они, хотя и громоздки, были наилучшим средством при транспортировке. В скором времени гипсовые повязки ввели повсеместно, и мы в своей работе использовали только их, быстро освоив все правила их наложения. При открытых переломах в гипсовых повязках делали специальные окна для лечения ран.
В этих делах протекал рабочий день. Нагрузка была большая, поток раненых был непрерывным. Рабочее место не пустовало. Заканчивали работу на одном столе, на другом уже лежал следующий раненый, которого подготовили к перевязке наши санитары, они же снимали шины.
И вот среди такого рабочего дня мне передают, что я должна пойти в перевязочную для ходячих раненых "для разгрузки". Никакой перегрузки у них я не заметила, и моё присутствие там было не оправдано. Начальником этой перевязочной был врач из нашей ОРМУ, но права перевода из одной группы в другую он не имел. Поэтому моя работа там была кратковременной. Перевязки ходячих раненых производились за маленькими столами, которые обслуживали врач и сестра. При переломах тоже накладывали шины, но они не были такими громоздкими, как у нас. Я обратила внимание, что в перевязочной находились ещё несколько человек в белых медицинских халатах, но они не обслуживали раненых, а только подходили к столам и смотрели, как делалась перевязка. Я перевязывала совсем молодого солдатика, который совсем не был приспособлен к военным условиям, видимо был призван из сельской глубинки. У него было пулевое ранение левой кисти. Рана была сквозная, не обработанная, но чистая, уже "под корочкой". До войны нам рассказывали о самострелах, когда солдат, чтобы избежать участия в военных действиях, наносит себе ранение, но не особенно тяжёлое. Он стреляет в себя сам, из своего оружия. Характерную картину при этом ранении нам описывали, но в жизни мы их не видели. Такая картина имелась как раз у раненого, которого я перевязывала. Вокруг входного отверстия пули имелись характерные изменения мягких тканей: следы ожога и мелкие точечные вкрапления в коже.
Я, как всегда подробно описала локализацию ранения и состояние раны. Наложила повязку, не делая каких-либо собственных заключений о характере ранения. Но ... это заключение сделал один из тех "людей в белых халатах", которые ходили по перевязочной, наблюдая за нашей работой. Раненого сразу направили в особое помещение, а не в обычное эвакоотделение. Моего солдатика ждала жестокая кара. В первые месяцы войны всех "самострелов" расстреливали как дезертиров. В дальнейшем их стали направлять в штрафные батальоны, где они ещё могли заслужить прощение. Солдатик, видимо, пострадал, послушав "совета" какого-то бывшего солдата старой царской армии. Постепенно эти явления исчезли, и мне больше никогда не пришлось с ними встречаться. Получив такой "урок", я на другой же день была возвращена в своё отделение.
Тем временем количество поступавших раненых оставалось большим. По этому мы судили, как шли бои на передовой линии фронта. Сами раненые о них ничего не рассказывали, мы их тоже не спрашивали.
В последних числах августа наша группа в полном составе должна была срочно прибыть в расположенный по соседству госпиталь для легкораненых (ГЛР). Штатный состав ГЛР не мог сам справиться с большой нагрузкой, а наша ОРМУ должна была оказывать такую помощь. Врачи ГЛР продолжали непрерывную работу вторые сутки и просто засыпали на ходу. Мы приняли от них "вахту", а они пошли отсыпаться. Перевязочная была развёрнута в пустовавшем деревянном доме довольно большой площади. Стерильный материал был на исходе, и нам пришлось пользоваться индивидуальными пакетами. Повязки закрепляли стиранными и прокипяченными в баке бинтами. Воды было больше, чем достаточно, так как деревня стояла на берегу реки. "Рабочую силу" составляли раненые, которые лежали в ГЛР и привлекались к работе своего госпиталя в качестве санитаров. Они помогали устроиться вновь прибывшим и регулярно кормили их. Мы, пользуясь уже приобретёнными навыками по приёму непрерывного потока раненых, быстро, в течение суток, справились с работой. К этому времени вернулись сотрудники ГЛР.
Мы оказались свободными и, хотя тоже хотели спать, предпочли сну купание в реке, так как давно уже не имели возможности хорошо помыться. Женщины, конечно, постирали свои вещи и обмундирование. Всё это сушилось прямо на прибрежной траве на солнышке. Сами хорошо, с удовольствием помылись, и в это время из ОРМУ привезли приказ возвратиться на работу в СЭГ. Натянули полусухое бельё и юбки, погрузились в свою машину и на ходу досушивали гимнастёрки. В свою перевязочную возвратились к ночной смене. Прошедшее казалось быстро промелькнувшим сном. Сентябрь стоял сухой, солнечный, но уже чувствовалась осенняя прохлада, особенно в вечерние, ночные и утренние часы. День делался короче, большую часть суток работали при электричестве с затемнёнными окнами - светомаскировка.
Во второй половине сентября по прилегающему к госпиталю шоссе усилилось движение наших войск, а у нас ещё больше возрос приток раненых, они поступали большими группами из ППГ, полевых подвижных госпиталей, в основном тяжёлые, и лечились у них как временно нетранспортабельные. Поступали и со свежими ранениями, но всегда достаточно обработанные.
В вечернюю смену в перевязочную пришёл главный хирург СЭГа военврач второго ранга Шур. Он обратился к врачам нашей перевязочной скорее с просьбой, чем с приказом, кто добровольно пойдёт в одну из землянок, где лежат носилочные раненые, чтобы осмотреть их на месте. Транспортабельных после укрепления повязок и шин отправить поездом в тыловой госпиталь. Тем же, у которых имелись противопоказания для эвакуации (высокая температура или плохое общее состояние), направлять для осмотра в перевязочную. Все молчали. Тогда я изъявила своё желание сделать это, но с условием, что отберу сама себе помощников из сестёр и санитаров нашей перевязочной. Получила на это согласие, и с лучшими работниками мы отправились в землянку.
В землянке находилось 50 носилочных раненых. Они лежали на носилках прямо на полу вплотную друг к другу, так, что подойти к ним было трудно. В землянке было жарко от топившейся "времянки" и воздух был настолько тяжёлым, что находиться там больше пяти минут было невозможно, вплоть до потери сознания. Приходилось хотя бы на минуту выходить на свежий, холодный воздух, вдохнуть его и снова идти в землянку. Сёстры начали свою работу с измерения температуры, я осматривала раненого, и при его удовлетворительном состоянии укрепляли имеющиеся повязки и шины и выдавали талон на эвакуацию. Если раненый температурил, отмечал боль в ране, мы его направляли в свою перевязочную для детального осмотра. Он получал талон "перевязочная" и наши санитары переносили его в перевязочную.
К утру мы свою работу закончили. Её продолжили эвакуаторы вместе с дежурной сестрой по землянке. К этому времени эвакуация по железнодорожной ветке была затруднена, так как она подверглась бомбардировке, были разрушены пути и частично подвижной состав. Это приводило к ещё большей загруженности госпиталя.
Первого октября СЭГ получил приказ срочно эвакуироваться в направлении Москвы, но сделать этого не мог, покинув на произвол судьбы имевшихся в нём раненых. Их старались отправлять с попутным транспортом, идущим от линии фронта, останавливая его даже под угрозой оружия. Но до его применения дело не доходило, так как все понимали сложившуюся ситуацию. Приём раненых был закрыт, и их направляли в другие пункты сбора. Несмотря на все принятые меры, оставалось ещё около трёх тысяч "ходячих" и часть "лежачих", которые должны быть отправлены с вновь формирующимся составом со старым локомотивом и вагонами по исправленным путям.
Это те самые раненые, которых мы осматривали в землянке в ту ночь. Возвратившись в свою перевязочную, мы застали следующую картину: все сотрудники перевязочной, начиная с врачей, дремлют сидя, облокотившись на перевязочные столы и ... это в то время, когда лежат ещё не осмотренные раненые из нашей землянки. Меня это так возмутило, что, пожалуй впервые в жизни, я взорвалась и приказала переложить всех раненых на перевязочные столы и продолжить работу, пока не останется ни одного человека, ожидающего осмотра. Эта работа была закончена к 10 часам утра 7 октября.
В это же время прибыл начальник полевого передвижного госпиталя (ППГ), который должен был принять на работу нашу группу ОРМУ. Он категорически отказался это сделать, так как госпиталь уже передислоцировался в направлении Москвы вместе с отступавшими войсками. Мы остались "без хозяина" и без плана дальнейших действий. Начальник СЭГа Гиллер был занят эвакуацией оставшейся части персонала и, главное, раненых. Начальник нашей группы Соловьёв и я остались ждать решения своей судьбы, отпустив остальной персонал в деревню, где ждала нас наша машина с шофёром Яшей Соломатиным.
Уже поздним вечером мы увидели начальника госпиталя Гиллера. Он шёл в сопровождении нач. сан. фронта генерала Гурвича. Оба спустились в подвал, служивший бомбоубежищем. Мы вошли за ними. В это же время пришла врач Кукушкина, она ведала эвакуацией в тыловые госпиталя, и доложила, что последний эшелон с лежачими ранеными отправлен в направлении Москвы. Как оказалось в дальнейшем, он не дошёл до места назначения, так как подвергся варварской бомбардировке фашистами.
Наше появление в подвале удивило начальника госпиталя. Но мы уже никого не боялись и объяснили сложившуюся ситуацию. В ответ получили краткое: "Следовать в направлении Москвы своим ходом!" Он не знал, что нам удалось сохранить свою машину, на которой мы должны были "следовать". Срочно вернулись в деревню, где все нас ждали, и всё было готово к отъезду. Не забыли даже захватить наше нехитрое имущество.
Как говорят, благословясь, мы двинулись в путь в неизвестное. Первое препятствие на нашем пути предстало в виде железнодорожного полотна, которое мы должны были пересечь, чтобы выбраться на дорогу. Яша разогнал свою пустую машину и с ходу преодолел это препятствие, после чего он погрузил всех нас. Выбрались к трассе, но ехать по ней было нельзя: она была загружена массой машин, идущих в направлении Москвы. Кроме того, всю эту массу беспрерывно "поливали" трассирующие пули немецких самолётов. Со стороны это выглядело, как огненный дождь.
Решили ехать просёлочными дорогами, не меняя направления, параллельно трассе. Была лунная ночь и ясная тихая погода. Можно было всё видеть вокруг. Мы оказались на большом бугре, по левому краю которого протекала река с пологими берегами. Вдоль неё проходила наша просёлочная дорога. По другую сторону реки находилась большая лощина, поросшая мелколесьем. В ней расположилась одна из отступавших воинских частей. Мы продолжили свой путь вдоль реки, надеясь найти переправу на другой берег. Вскоре дорога привела к разрушенному деревянному мосту. Все его брёвна наклонились к воде и валялись в беспорядке.
Посовещавшись, мы решили попытаться сделать свою переправу, переложив брёвна прямо в воду поперёк течения реки. Река была мелкая с песчаным дном, и мы надеялись, что брёвна выдержат тяжесть пустой машины. Все "пассажиры" приступили к работе. Брёвна были большие, толстые и намокшие в воде. И наши девочки из последних сил справлялись с ними. Вдруг подъехала машина, в которой находилось много мужчин, но ни один из них не пришёл на помощь. Они ждали, чем закончится наш труд, и, если мы переедем по своему "мосту", то они им воспользуются тоже. Уложены последние брёвна. Мы все перешли по ним на другую сторону, а Яша повторил свой манёвр по преодолению препятствия. И чудо! Он опять оказался победителем, и мы смогли ехать дальше. Оглянувшись назад, мы увидели, как трудятся "мужчины", вытаскивая свою застрявшую на нашей переправе машину. К вечеру мы подъехали к деревне. Зашли в один из домов на окраине. В нём жила семья из четырёх человек: молодая женщина с двумя детьми и матерью мужа, который, находился в армии с первых дней войны. Все они были заняты тем, что перетаскивали тёплые вещи из дома на задворки - в холодный сарай с погребом. Они собирались переселиться туда, если в деревню явятся немцы. Нам предложили отдохнуть с дороги в доме. Но никто из нас не спал, ведь мы находились всего в 18 километрах от Вязьмы, где уже хозяйничали фашисты. Как только стало светать, мы собрались продолжить свой путь, предварительно узнав, как нам ехать дальше.
Однако все дороги выходили на трассу Москва - Минск. Против раннего выезда из деревни возражал один из врачей - Ч. Он был старше всех по званию, но на этот раз мы ему коллективно не подчинились. Путь до трассы был недолгим, и мы были приятно удивлены, что было тихо и спокойно. Трасса была абсолютно пустой, только по обочинам валялись перевёрнутые автомашины, трупы лошадей - результат ночных деяний. Убитых людей не было. Поехали по прекрасной асфальтированной дороге, но у всех было тревожное чувство, что тишина может быть обманчивой, и мы можем стать жертвой первого же вражеского самолёта. Никто не высказывал этого вслух, но видимо, так думал и наш Яша. Он резко затормозил и свернул налево. Как выяснилось, дорога вела к Можайску, и мы благополучно добрались до него. Улицы города напоминали базарный день в небольшом городе, когда на площадях стоят жители, приехавшие из соседних деревень продавать и покупать. Везде в беспорядке стояли машины, в поисках чего-то передвигались люди. Искали однополчан или товарищей, отступавших из района Вязьмы, искали пропитания, которого купить было негде. Мы тоже не ели ничего с момента отъезда из Вязьмы, не было простого чёрного сухаря, не было и продовольственного аттестата, который мы получали в ОРМУ. Поэтому все наши попутчики разошлись в поисках пропитания, а я осталась в машине очень уставшая, с чувством отвращения к еде. Поход попутчиков имел результаты. Девочки принесли "букеты", состоящие из красочных леденцов - петухов на палочках - довоенное лакомство детворы. А вот простого хлеба купить не могли. Вернулся наш доктор Ч., который всегда имел прикомандированного к себе санитара. У обоих за плечами были вещевые мешки, набитые чёрными походными сухарями. Оба мешка, не развязывая, спрятали в машину. Проделали всё это на глазах у голодных девочек - медсестёр. Меня так возмутил его поступок, что я спросила, почему они ни с кем не поделились. Мой вопрос так разозлил доктора, что он выхватил свой пистолет (он почему-то не сдал его, когда мы сдавали своё оружие в ОРМУ) и стал им угрожать. Я спокойно стояла перед ним на глазах у всех подчинённых и сказала: "Стреляйте! вы всё равно этого не сделаете, потому что Вы трус!" Им он и оказался, я перестала с ним разговаривать, а потом просто и замечать. Вспомнила об этом случае много лет позже, уже после войны, когда судьба нас опять свела по работе. Ч. узнал, что я хочу переходить работать в учреждение, в котором он уже работал. Я пришла познакомиться и договориться о переводе с ведущим хирургом учреждения. Ч. опередил меня и стал усиленно меня хвалить и рекомендовать обязательно взять меня как прекрасного работника. Об этом мне рассказали позже. Что побудило его к этому, я не знаю, со мной он был очень предупредительным.
Но вернёмся опять в Можайск. Нашу группу разыскали врачи из Ростова-на-Дону, которые работали с нами в Вязьме и сумели своевременно выехать. Они очень обрадовались, увидев нас, поделились своим продовольственным запасом, покормив нас и обеспечив ещё и на дорогу. К вечеру мы покинули Можайск и продолжили свой путь к Москве, рассчитывая встретить нашу ОРМУ, которая выехала из Вязьмы раньше.
Я решила использовать свой московский мобзапас, чтобы поддержать им Яшу. На его долю легла вся нагрузка по нашему переезду. Предупредила всех остальных, чтобы не было обид. Ему выдавала по кусочку колбасы и шоколада для утоления голода. Голод мы испытывали все.
Путь лежал по дороге, по которой двигались многие части. Но сама дорога, строительство которой началось до войны и не было закончено, скоро стала просто непроезжей, и приходилось пользоваться объездами. К ночи добрались до стоянки в лесу, где помещались домики строителей этой дороги. Попали в какой-то дом, разместились в нём, но скоро к нам вселилось ещё столько народа, что не было места даже сесть. Конечно, не спали. И вот среди ночи пришел наш Яша и сказал, что у нас кончился запас бензина и дальше продолжать путь нельзя. Он решил, пользуясь темнотой и крепким сном уставших людей и водителей машин, отсосать из баков часть бензина и собрать канистру для нашей машины. Это была опасная затея, так как если кто-то из хозяев машин его обнаружит, то может кончиться простым самосудом. Выхода другого не было, и он пошёл на риск, обещая быть аккуратным. Мне и операционной сестре, которая была тоже осведомлена об этом "предприятии", было не до сна. Наконец Яша явился и сообщил, что "всё в порядке" и мы можем спокойно продолжать свой путь, не причинив вреда для других. Как говорят, это было "3:0 в Яшину пользу".
 Октябрь 1941 года.
Октябрь 1941 года.Моя встреча с подругой И.В.Каменской |
Так мы доехали до ближайшего подмосковья и с радостью увидели на дороге указатель "ОРМУ-20". Это была станция Дорохово. По каким-то неведомым ориентирам, чутьём мы нашли уже ставших родными своих ОРМУвцев. Видимо потому, что и они волновались и ждали нашу единственную отсутствующую группу. Я вошла в дом и попала в объятия своей дорогой подружки Ирочки Каменской. Мы с ней расстались в июле, по прибытии в Вязьму. Её группу командировали в другую часть, имелись лишь сведения, что они живы и работают, не меняя места. Все уже отчаялись нас видеть, рисовались самые страшные картины. Ира, как ребёнка привела меня в порядок, накормила и уложила в свою кровать, и начались бесконечные рассказы о родных, о знакомых, событиях. Не спали даже ночью. Подобное происходило и с нашими девочками, встретившими своих подруг. |
Совсем скоро, по приезде в Москву Ирочке пришлось пережить страшную трагедию. Ира родилась на Украине в Днепропетровске. В самые первые дни оккупации Днепропетровска фашисты, кровожадные и злые, горящие ненавистью к еврейской нации, расстреляли мать и бабушку Ирочки. Пережить такое даже на фронте среди всех трагедий, с которыми нам приходилось ежеминутно сталкиваться, было очень трудно. Время сгладило остроту переживаний, но и после войны, спустя много лет, Ирочка отказывалась бывать на своей родине, и не была там до самой своей смерти.
На другой день зашёл к нам доктор Шапиро, уже немолодой человек, московский специалист по лёгочной хирургии. Мы виделись с ним в Вязьме, когда их группа уже выезжала в Москву, и он предлагал мне поехать с ними, но место в машине было одно, и взять ещё трёх сестёр из нашей группы он не мог. Я же ехать одна отказалась. Но он оказался последним, кто видел нас в Вязьме и тоже волновался за нас. Сейчас он ехал в Москву на сутки и предлагал мне поехать с ним, так как и жили мы с ним в Москве совсем близко. Меня тоже отпустили. Мне надо было повидать мою дорогую тётю Маню, которая отказалась выезжать из Москвы и ждала меня день и ночь. В Москве Шапиро остановился у своего родственника, который должен был выехать в эвакуацию. Жил он в районе Кропоткинской улицы, но у нас была своя машина, на которой меня и отвезли домой, а в 6 часов утра должны были забрать, чтобы ехать в Дорохово.
Но этому плану не суждено было осуществиться. Моё появление дома было полной неожиданностью, и мы не успели ни наглядеться, ни наговориться друг с другом, как неожиданно появился шофёр машины, в которой ждал меня доктор Шапиро, чтобы ехать в ОРМУ по срочному вызову. ОРМУ-20 уже приступила к своим обязанностям - помогать обслуживанию раненых. И мы опять отправлялись в СЭГ-290, с 10 октября приступивший к работе в Москве, в районе метро Сокол, в Амбулаторном переулке.
Было уже 14 октября, за этот период произошло много событий в самой столице. Простилась я навсегда со своим Яшей и двумя санитарами. Временно отсутствовали Соловьёв и операционная сестра Лариса Часовских, так как за время нашего короткого отсутствия в Дорохове произошли трагические события. Между домами, в которых размещалась наша ОРМУ, имелась большая площадка - местный стадион. Там происходил сбор местных жителей, вступивших в ополчение для защиты Москвы. Это скопление народа засекли фашистские стервятники и сбросили свой смертоносный груз. Многие ополченцы были убиты, не вступив в свой первый бой. Осколки рвавшихся бомб попали и в дома, расположенные по соседству. В одном из них жили наши медсёстры. Операционная сестра Фрося была тяжело ранена. Осколок прошёл через позвоночник в брюшную полость и повредил петли кишок. Её срочно на машине ОРМУ доставили в московский Главный госпиталь Красной Армии в Лефортово. Лариса сопровождала её. Фрося подверглась срочной операции, которую ещё успели сделать врачи госпиталя перед его выездом в эвакуацию в город Горький. Это всё, что мы о ней узнали. Позже, когда СЭГ начал работать в стенах покинутого госпиталя, мы наводили справки о ней. К сожалению в Москве из всего состава госпиталя остался один врач-хирург. Но он Фроси не знал, сказал, что всех тяжёлых раненых переводили в местные больницы, которые стали работать как госпиталя. Осталась ещё старая госпитальная вольнонаёмная няня, которая помнила Фросю. Она сообщила нам, что Фрося была очень тяжёлая больная, но жива, и её перевозили в другую больницу, но куда, она не знала. Полученное ею ранение было очень тяжёлым и несовместимым с жизнью и, вероятнее всего, закончилось смертью. Фрося была сиротой с детства, жила до войны в городе Орле, кто её воспитывал, мы не знали. Так трагически закончилась жизнь 18-летней, обаятельной, умной девочки, сгоревшей в огне Отечественной войны.
К октябрю 1941 года врагу удалось прорвать оборону наших войск на дальних подступах к столице в районе Вязьмы. Вместе с нашими частями отступали и медицинские подразделения, обслуживающие их. Отступил и СЭГ-290 в направлении Москвы, ставшей уже прифронтовым городом. Свою работу в Москве он начал 10 октября. Возвратившись в Дорохово, мы узнали о том, что ОРМУ-20 реорганизована в ОРМУ-35, и что у нас новый начальник. Нас опять отправили в СЭГ-290. Госпиталь уже работал в Москве. Он расположился в корпусах какого-то довоенного госпиталя, эвакуированного в тыл. Уже четверо суток СЭГ принимал огромный поток раненых, прибывающих из фронтовой полосы, находившейся совсем близко от Москвы. Нас сразу же направили в перевязочную на приём раненых, и мы стали выполнять свою, уже привычную работу.

|
Сменили нас только через сутки. Мне указали комнату на первом этаже здания, предназначенную для отдыха врачей. В комнате стояло пять нетронутых коек. Никого в ней не было. Я как всегда выбрала себе местечко у стеночки, но не успела даже разобрать постель, как раздался сильнейший взрыв прямо у стены корпуса. В комнату полетели разбитые оконные стёкла, и трещали разрушающиеся стены здания. Бомбы продолжали рваться. В результате все корпуса получили неисправимые повреждения. Убитые были и среди раненых и среди персонала. |
Все работавшие сотрудники госпиталя старались спасти раненых, перенося их в бомбоубежище в подвал. Но эта работа была уже бессмысленной и позже была отвергнута. И, хотя госпиталь подвергался ещё нападениям с воздуха, раненых переносить не пытались. С усилением противовоздушной обороны Москвы бомбардировки прекратились. Хотя я ещё раз попала в неё прямо на улице города, на Трубной площади, когда ехала в трамвае на краткосрочную побывку домой. И тоже спаслась в бомбоубежище, в которое пассажиров трамвая насильственно отправила милиция.
Госпиталь в Амбулаторном переулке вынужден был прекратить свою работу. Всех сотрудников разместили в пустовавшем здании какого-то учебного заведения рядом со зданием Московского почтамта на улице Кирова (теперь Мясницкая). Мы должны были жить в нём, пока госпиталь не получит нового помещения. Это продолжалось не более двух суток.
Враг быстро наступал, подбрасывал всё новые силы. Шли тяжёлые бои непосредственно у стен города. В этих условиях 15 октября Государственный Комитет Обороны принял постановление "Об эвакуации столицы СССР г. Москвы". В числе иностранных миссий, правительственных учреждений, оборонных и некоторых других предприятий был эвакуирован и Главный военный госпиталь Красной Армии.
Зима 41-го в Москве

|
После этого изменилась и сама прифронтовая Москва. Ещё тяжелее стало жить остававшимся в ней москвичам. Улицы обезлюдели. И днём и в ночное время можно было видеть лишь единичных пешеходов, озабоченных и спешащих по делам. Дома с заклеенными бумажными полосками окнами и затемнёнными шторами казались безжизненными. Не было видно ни одного окна, манившего в тепло и уют живших в них семей. |
Почти не было ни машин, ни троллейбусов. Иногда, вне всякого расписания, появлялся трамвай, собиравший случайных прохожих. Зима установилась рано, с сильными морозами до минус тридцати. Не лучше было и внутри московских домов. Они не отапливались, было холодно и почти темно, так как электричество горело "в полнакала". Нельзя было пользоваться нагревательными приборами. Было невозможно ни сварить пищу, ни просто вскипятить воду. Работавшие получали рабочие продовольственные карточки со скупым набором продуктов. Не работавшие, а это старые люди, получали иждивенческую карточку, по которой на день выдавался маленький кусочек ржаного хлеба. Конечно, довоенных запасов продуктов никто не имел, так как и жили на скромные средства, и нужды в этом не было.
|
В таком же бедственном положении оказался и мой единственный близкий человек, любящий и преданный, очень добрый, моя тётя Маня. С нею я жила с 1937 года. Она была одинока и пригласила меня жить к себе. Она же меня провожала на войну 24 июня 41-го года. Она отказалась эвакуироваться из Москвы в надежде на то, что здесь она сможет скорее встретиться со мной. Вот это время и пришло. Я опять в Москве, но уже прифронтовой, спешу к ней на помощь. Но и помощь моя была невелика. Никаких денег не хватало, чтобы где-то купить продукты. Вот я и старалась отвезти ей свой несъеденный госпитальный обед и частицу из командирского пайка. |
 |
 Н. П. Рудаков |
С переездом СЭГ-290 на новое место совпал перевод на должность заместителя начальника госпиталя бывшего начальника ОРМУ-20 Н. П. Рудакова. Он по-прежнему тепло и внимательно относился к своим подчинённым. Этим я и пользовалась для получения увольнительной в свободное от работы время, чтобы увидеться со своей тётей. |
Ездила, вернее ходила, так как весь путь от Лефортово до Достоевского переулка (это у театра Красной Армии) шла пешком, и днём и ночью, в зависимости от смены в госпитале. В вечернее время, после 10 вечера, можно было вообще не дойти, так как военный патруль имел право задержать тебя и отправить в изолятор "до выяснения обстоятельств" - не шпион ли. Чтобы избежать задержания, пускалась на уловки. Увидев патруль, вступала в разговор первая. Спрашиваю: "Сколько сейчас времени? Спешу на работу в госпиталь, как бы не опоздать". Отвечают: "Около 24-х, успеете!" Я, конечно, одета в военную форму, и это выглядит правдоподобно. Но самое лучшее, с патрулём совсем не встречаться. Попадёшь домой, поспишь часа 3 - 4 и в 6 утра надо возвращаться в госпиталь, чтобы не опоздать. Когда идёшь днём после ночной смены, и вдруг попадает трамвай, конечно, садишься, можно отдохнуть. Правда, время на дорогу удлиняется. Но это ещё не всё. Часто объявляют воздушную тревогу. Тогда домой вообще не успеешь попасть. Трамвай останавливается, и всех его пассажиров направляют в ближайшее бомбоубежище. Избежать этого почти никому не удаётся.

|
Еду на "Аннушке" (трамвай номер "А"), спускаемся к Трубной площади, до дома уже близко и, вдруг "тревога". Всех отправляют в подвал стоящего вблизи деревянного двухэтажного дома. Безопасность пребывания там сомнительна. Ждём отбоя тревоги. Вдруг земля вокруг убежища начинает сотрясаться, слышны взрывы бомб, сброшенных фашистами где-то совсем близко. Убежище выдержало, и после отбоя нас выпускают на волю. Оказалось, среди Трубной площади образовалось четыре воронки от бомб, видимо, небольших. Наша судьба и на этот раз оказалась милостива к нам! И всё-таки я не упускала возможности побывать дома. |
Как-то вечером, Н. П. Рудаков, выдавая мне очередную увольнительную, предупреждает меня, "Будьте осторожны, не задерживайтесь!" Это был день, когда фашисты подошли совсем близко к Москве, они были в "Красной Поляне", расположенной в 28 км от Москвы.
Так мы и продолжали общение с тётей Маней, когда позволяла моя тяжёлая работа.
Оставаясь в Москве, я поддерживала связь со своей клиникой. После эвакуации нашего института в больнице остался работать старший ассистент клиники доктор мед. наук Александр Павлович Беюл. Он был руководителем ещё нашего студенческого научного кружка и моим основным учителем не только по хирургии, но и по жизни. С ним же я начала свою врачебную деятельность, работая в его палатах по абдоминальной хирургии. Это был врач с традиционным медицинским воспитанием, грамотный, интеллигентный человек с добрым отношением ко всем людям. У него, кажется, не было врагов вообще.
В это тяжёлое время в прифронтовой Москве ему пришлось вести занятия с оставшимися студентами, лечить не только больных из городского населения, но и раненых, которые поступали в московские больницы из военных госпиталей. В этом ему помогали молодые женщины-врачи, имевшие детей и окончившие наш факультет перед войной.
Но самой тяжёлой обязанностью для него оказалась должность главного врача больницы со всеми хозяйственными заботами, которые были ему не свойственны. Помощниками ему были все старые сотрудники больницы. Они помогали ему не по обязанности, а из уважительного отношения к Александру Павловичу. Самым обременительным оказалось снабжение всех пациентов хлебом, который нельзя было заготовить впрок, как другие продукты или предметы обихода. Из транспорта в больнице была только лошадь с телегой. Вот на ней-то и завозили хлеб с самого раннего утра, чтобы в пекарне хватило. Для экономии времени и сил, а он был уже в летах, он стал жить в больнице в своём рабочем кабинете, где он поставил кровать. По пути домой я иногда забегала на несколько минут в клинику, тем более, что это было недалеко от моего дома. И вот 24 января 42 года мне позвонили по телефону и сообщили печальную новость: умер Александр Павлович Беюл. Умер ночью в своей постели и даже без врачебной помощи, которую он оказывал другим всю свою жизнь. Его беспокойное доброе сердце не выдержало такой нагрузки. Я, воспользовавшись тем, что работала в ночную смену, поехала в клинику. Прощание проходило в малом конференц-зале. Присутствовали его жена, дочь и все сотрудники больницы. После войны я часто посещала его могилу в Донском крематории. Я осталась благодарна ему на всю жизнь.
Госпиталь в Лефортово
После 15 октября 1941 года корпуса старейшего петровского госпиталя впервые опустели, но ненадолго. В его помещениях разместили наш фронтовой сортировочный эвакогоспиталь как медицинское учреждение нового типа, обеспечивающее у себя концентрацию раненых, их сортировку, лечение и эвакуацию "тяжёлых" для дальнейшего лечения в тыловых госпиталях.
На обустройство госпиталя было отведено 24 часа. В о й н а! И этого времени нам хватило, чтобы уже через сутки приступить к работе, начать приём раненых защитников Москвы, прибывавших с фронтов Западного, Калининского и даже с Юго-Западного.
Корпуса лефортовского госпиталя позволили нам разместить все необходимые профильные отделения для лечения раненых с проникающими ранениями в грудь, живот и череп, анаэробное отделение, челюстно-лицевое и другие. Расширены были приёмно-сортировочные отделения - для ходячих раненых, носилочных и терапевтических больных. Организовано самостоятельное эвакуационное отделение, проводившее отправку раненых в тыловые госпитали для продолжения лечения.
Как я уже сказала, бои на подступах к столице были исключительно упорными и ожесточёнными. Только к нам в госпиталь поступало в сутки до десяти тысяч раненых. Они шли непрерывным большим потоком. Людям предстояло принять ещё один "бой", не менее тяжёлый, бой после боя. При любой тяжести ранения мы, военные медики, обязаны были сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить человеку жизнь. А ведь раненых нередко преследовали всевозможные осложнения в виде инфекций (газовая гангрена, столбняк), повторные кровотечения и т. п. К тому же любое ранение сопровождалось большими физическими и моральными переживаниями пострадавшего. И чтобы всё это вынести, от раненого требовалась мобилизация воли, терпения и надежды на выздоровление. Больной обязательно должен помогать врачу!
Нужно сказать, что наши медики были хорошими психологами. Умели поддержать раненых, "вдохнуть" в них веру и надежду на успех лечения. А это очень важно в профессии врачевателей. За годы работы в военном госпитале мне почти не приходилось слышать жалоб и стонов раненых. Мужественные у нас люди!
Что ещё можно рассказать о нашей работе в условиях войны? Первое, с чем пришлось столкнуться персоналу нашего эвакогоспиталя в повседневной работе, - это громадная перегрузка в результате постоянного притока большого числа раненых. Потребовалась перестройка буквально всех подразделений и служб.
Возьмём для примера работу только одного отделения, в которое поступали раненые с повреждением костей, суставов и магистральных сосудов нижних конечностей. Первое, что понадобилось сделать - это максимально увеличить количество коек. В палатах их сделали двухэтажными. Использовались даже носилки, укреплённые на специальных подставках.
Изменён был режим работы персонала - 12-часовой график работы заменили 16-часовым. Причём часы отдыха зачастую нарушались, если того требовала оперативная обстановка. Каждый трудился сверх выносливости своего организма. Особенно тяжело переносили дефицит сна молодые сотрудники. Они буквально валились с ног, засыпали на ходу.
Кончается 16-часовая смена. На столе - последний раненый. Он осмотрен и обработан. Сестра заканчивает наложение повязок. Иду к столу, чтобы записать в истории болезни результат осмотра. Но пальцы не держат ручку, голова склоняется к столу. Я засыпаю. Встряхиваюсь, иду опять к столу и слышу голос раненого: "Доктор, Вы прилягте на руки, поспите 5 - 10 минут и всё пройдёт. А я подожду, мне всё равно, где лежать". Он, видимо, следил за мной.
Сестра из эвакоотделения приносит историю болезни осмотренного в нашей смене раненого. На странице, где должна быть запись осмотра, через всю страницу идут ровные зигзагообразные линии. Ни одной буквы нет, нет и подписи. Установить автора было бы не трудно, но зачем? Все мы очень хотели спать. Пришлось осмотреть раненого ещё раз и оформить историю болезни. Огромное значение в работе имеет доверие между сотрудниками, когда ты знаешь, что всё необходимое для пациента будет сделано, выполнено вовремя.
Во второй половине октября 41 года, когда мы осваивали здания Лефортовского госпиталя и развёртывали специализированные отделения, появилась острая необходимость в квалифицированных специалистах. На одной из утренних врачебных конференций начальник госпиталя Гиллер представил вновь назначенных начальников черепно-мозгового и торако-абдоминального отделений.
 Начальник отделения №4 профессор Шлыков Александр Архипович |
Черепно-мозговое (IV) отделение возглавил профессор Шлыков, сотрудник московского нейрохирургического института. Александр Архипович Шлыков находился в армии с первых дней войны. Был ранен, поступил в СЭГ-290 и после излечения остался в нём работать. Ученик Н. Н. Бурденко, он успешно руководил отделением до последних дней войны, а после демобилизации продолжил работу в Московском Нейрохирургическом институте им. Бурденко. |
 Профессор Шлыков со своим отделением |

Черепно-мозговое отделение. Оперирует профессор Шлыков |

|
Черепно-мозговое отделение. Оперирует окулист Шлыкова |
Начальником торако-абдоминального отделения (ранения в грудь и в живот) была назначена Дина Лазаревна Цирлина - кандидат медицинских наук. До войны она работала во II Московском мединституте на кафедре хирургии. Когда началась Финская война, Цирлину призвали в армию, где она заведовала хирургическим отделением в госпитале под Ленинградом у эстонской границы в городе Кингисеппе. Там я встретилась с ней впервые, работая в её отделении.

|
Сотрудники отделения №1 - торако-абдоминального. Во втором ряду слева врачи Ирина Робертовна Лезерсон, Пронин и начальник отделения Дина Лазаревна Цирлина. |
После окончания Финской войны мы все время поддерживали дружеские отношения, я часто бывала у них. К июню 41-го мы потеряли связь и волею судеб вновь встретились на конференции в октябре 41-го. На конференции мы с ней встретились как старые друзья. Вечером того же дня, когда была конференция, я пришла в её новое отделение, и узнала всё, что с ними произошло в этот короткий, но непростой промежуток времени. Муж её продолжал лежать в госпитале, но поправлялся плохо, и состояние его было тяжёлым. Для лечения в госпитале не оказалось необходимых лекарств, его не могли обеспечить даже необходимым для него сахаром.
Не говоря ей ничего, после беседы с ней, несмотря на позднее время, отправилась прямо к начальнику госпиталя Гиллеру и всё ему рассказала. Он ничего этого не знал, внимательно меня выслушал, сразу же вызвал начальника аптеки и приказал срочно достать всё необходимое. Уходя от него, я попросила ничего не говорить о моём приходе к нему. Утром следующего дня Гиллер вызвал к себе Цирлину, вручил ей все необходимые лекарства, предоставил ей машину, правда, грузовую, для поездки в госпиталь к мужу, разрешив пользоваться ею по надобности. Она с восхищением говорила мне об отзывчивости к подчинённым своего нового начальника. Она оперировала и нашу медсестру Женечку Ворсанофьеву, и помогала мне, когда я заболела в 42 году и лежала у неё в отделении, а в конце войны, после 9 мая, лечилась у неё же в отделении. Надо сказать, что она была не только высококвалифицированным хирургом, но и отличным начальником. Она была требовательной и строгой с подчинёнными, но и справедливой. Все её уважали и беспрекословно слушались, выполняя её требования, любили и поддерживали с нею тесную связь после войны. Хочу ещё раз остановиться на положительных качествах этой супружеской пары и рассказать о них, правда забегая вперёд.
Это было уже после войны, когда Дина Лазаревна возвратилась на прежнюю работу в медицинский институт. Она готовила к защите докторскую диссертацию. В один из дней она задержалась в отделении до десяти вечера, пошла домой и заметила одиноко сидевшую в коридоре девочку лет 6 - 7. На вопрос, что она здесь делает, девочка объяснила, что здесь лежит её мать. Она тяжело болеет, и девочка навещает её. Но сегодня её не пустили к маме в палату и она сидит и ждёт свидания с ней. Дина Лазаревна знала эту больную, у неё был неизлечимый рак, и она в тот же день умерла.

|
Она не могла сказать это девочке и предложила проводить её домой. На это девочка сказала, что дома у неё была только мама, но её там сейчас нет. Тогда Дина Лазаревна уговорила её пойти ночевать к ней. Впоследствии выяснилось, что других родственников у девочки действительно нет. У Дины Лазаревны своих детей не было, и они удочерили её, вырастили, воспитали и выучили. Она окончила школу и медицинский институт и стала врачом. |
Медицинские сёстры
Средний персонал был пополнен вновь пришедшими дипломированными, с опытом работы, медицинскими сёстрами. За качество их работы можно было быть спокойным. Вторую группу составляли добровольно пришедшие работать студенты из различных институтов Москвы. Они получили подготовку на довоенных курсах "Российского общества Красного креста" (РОКК). Они имели небольшую теоретическую и почти никакой практической подготовки. У них были свои неоценимые качества: они готовы были отдать все свои силы порученному делу. Они готовы были учиться, постигая все премудрости медицины. Никогда не считали зазорным для себя обратиться за помощью, лишь бы своими действиями не повредить раненому. Они быстро всё схватывали и выполняли, освоив и перевязки, и гипсование, и даже переливание крови (под контролем врача), и уход за ранеными в палатах.

|
РОККовские медсёстры Саша Митрофанова, Эся Гуревич и Наташа Безукладникова. |
Женя Ворсанофьева
Появилась она среди медсестёр госпиталя как-то незаметно в конце 42 года, когда СЭГ находился ещё в Москве. Обращал на себя внимание её необычный внешний вид. Она была коротко острижена, с правильными чертами лица, нерезко выраженными оспинками. Солдатская гимнастёрка и брюки, заправленные в сапоги. Надо сказать, что этот костюм она не сменила до конца войны и представить её в гражданском платье как-то не удавалось.
С первых же дней войны она как медицинский работник была призвана в армию и оказалась на Западном фронте в дни обороны Москвы. Она обслуживала раненых на самой линии фронта. Оказывала им первую помощь и эвакуировала с поля боя. Однажды пострадала сама, получив контузию, потеряла сознание. Солдаты вынесли её с поля боя, затем она попала к нам. Её не эвакуировали, лечили у нас. Как выяснилось, до войны она работала в ортопедическом институте и была гипсовальным техником высшей квалификации. Она выполняла свою работу не автоматически, а с полным пониманием того, какие изменения происходят в костной системе при переломах. Фиксировала повреждённую конечность в правильном положении, точно сопоставляя линии перелома, чем облегчала в первую очередь боль у пострадавшего, а затем быстрое и правильное сращение отломков. Когда я в первый раз увидела её за работой, я поняла, что значит делать свою работу виртуозно и красиво. Это работал "скульптор"! Конечно, такого работника начальство нашего госпиталя отпустить от себя не могло. Она проработала в СЭГе до конца войны. Мне пришлось жить с ней в Пыжовке в холодном бараке зимой 44-го и ближе узнать её как человека. Всегда спокойная, выдержанная, доброжелательная и терпеливая. У неё была врождённая аномалия развития кишечника, которая в результате грубого питания и тяжёлой работы стала себя проявлять тяжёлыми приступами болей. Как она ни старалась, скрыть этот недуг ей не удавалось. Ещё до войны ей поставили диагноз и предлагали операцию. Сейчас она была вынуждена согласиться на операцию, которую сделала ей Дина Лазаревна Цирлина. Операция прошла успешно и избавила её от приступов болей и дала ей возможность продолжать свою любимую работу. Она очень по-доброму относилась к товарищам и всегда им помогала, если кто заболевал, она брала их работу на себя. Я испытала её доброту на себе.
Нужно сказать, что особенно в первый год войны медработников питали хуже всех, видимо, считая, что их труд был легким в сравнении с другими на войне. Ещё в Московский период нам на завтрак была положена пшённая каша "без ничего", то есть без какого-либо жира, молока или мяса, чай с кусочком сахара и сухарём из ржаного хлеба. В обед - суп из воды, опять с пшеном и засоленным незрелым зелёным помидором, добавляемым, видимо, "для вкуса". Вкус этого супа я запомнила на всю жизнь, так как он вызывал у меня боли в животе. Из-за такого питания я совсем перестала ходить в столовую и перешла на "собственное питание", состоявшее из трёхразового чаепития с командирским пайком. Его выдавали комсоставу раз в десять дней. В него входили 1/2 кг пилёного сахара, иногда одна банка сгущенного молока (количество сахара соответственно уменьшалось), банка мясных консервов и долевой паёк ржаного хлеба в виде сухарей. Как правило, сахара мне хватало на 5-6 дней. Когда мы жили вместе с фельдшерами и медсёстрами, на моей постели стали появляться кусочки сахара. завёрнутые в марлю. Это кто-то делился со мною из своего командирского пайка. Кто это делал, установить долго не удавалось, потом выяснилось, что этим неизвестным благодетелем была наша Женя.
Во второй половине ноября 41-го меня перевели в отделение для раненых с открытыми переломами костей, суставов и повреждением магистральных сосудов нижних конечностей. В этом отделении я работала до весны 1944 года. В московский период работы госпиталя отделение располагалось в одном из старейших зданий Петровского госпиталя, занимая два этажа. На втором этаже было развёрнуто челюстно-лицевое отделение со своими процедурно-перевязочной и операционной.
Имелись стационарные койки, где задерживались почти все поступающие раненые. У них были тяжёлые ранения, и они требовали специального ухода и лечения. На этаже имелись две небольшие палаты-изолятора. Здесь же жили врачи обоих отделений.
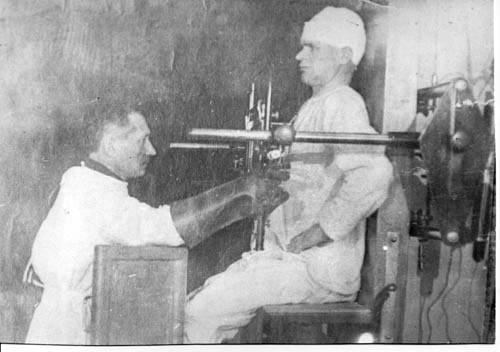 Главный рентгенолог госпиталя полковник медслужбы Григорий Наумович Трейстер
Главный рентгенолог госпиталя полковник медслужбы Григорий Наумович Трейстер |
Первый этаж был занят носилочными ранеными с ранениями нижних конечностей. Отделение имело также свои операционную, перевязочную, гипсовую и процедурную, а также рентгеновскую установку. После осмотра в перевязочной раненые поступали в большую палату и ждали отправки в эвакоотделение. Для тех, которые были нетранспортабельны или нуждались в операции, было выделено ещё шесть коек, которые размещались в "фонаре" наружной стены и этим были отделены от общей большой палаты. Несмотря на большие размеры, в палате всегда было чисто, уютно и тихо, так что раненые могли спокойно отдыхать. Сёстры и няни заботливо ухаживали за ними. Для раненых из командного состава были ещё две небольшие палаты. |
Изменили порядок работы: в перевязочных проводили только осмотр раненых и оказывали необходимую помощь - обработку ран, наложение повязок. Всех раненых, которым требовалась операция, переводили в специальную палату.
Изменился и характер операций, так как к нам зачастую поступали раненые, не получившие необходимой помощи во "впереди расположенных медицинских учреждениях". Там оперировали только в крайних случаях, когда ранение угрожало жизни человека (проникающее ранение живота, грудной клетки, черепа и др.)
Кроме того, оперативному лечению подвергались раненые с осложнениями: нагноения, газовая гангрена. Самым страшным из осложнений, пожалуй, являлась анаэробная инфекция. До поры - до времени она не даёт о себе знать, но при возникновении "благоприятных" условий вспыхивает, очень быстро распространяется, буквально за часы, и зачастую приводит к летальному исходу. Недаром ещё древние называли её "антонов огонь". Для таких раненых у нас было создано специальное отделение.
Газовая инфекция может возникать при любом ранении и выявляется в любом отделении.Так у нас погиб от внезапно вспыхнувшей газовой гангрены молодой командир Ваня Иваншин. Он, выпускник военного училища, в первом же бою был ранен. У него было слепое осколочное ранение ягодицы. Рана была правильно обработана врачами медсанбата. Она была большая, но чистая, наполненная грануляциями. Грануляции были крупнозернистые, яркой красной окраски и просто выпирали из краёв раны. Она упорно не эпителизировалась, и края её не срастались, несмотря на все наши стараниями. В это время в госпитале появился военврач второго ранга, который занимался подобными больными. Он пришёл вместе с начальником отделения, а направлен был начальником госпиталя. Взяли Ваню в перевязочную, и пришедший врач показал своё новое приспособление. Оно предназначалось для постепенного стягивания краёв раны в процессе заживления. Глубоко ниже дна раны проводились (прошивались) металлические нити, выводились с боков раны и продевались в боковые пластинки. Пластинки эти сближались нитями путём подвёртывания шайб. Сама манипуляция не представляла сложности и не была болезненна для раненого. Я присутствовала при этой процедуре, но со мною даже не разговаривали. Ваню перенесли в палату, он как всегда был весел, шутил. Но к вечеру у него поднялась температура, и я заметила, что из-под краёв повязки на коже появились ярко-красные полосы. Как огненные языки, они шли по туловищу кверху, к поясу. Жалоб раненый не предъявлял, но для меня это был тревожный симптом, и я срочно вызвала начальника анаэробного отделения доктора Лейцина, великолепного врача и человека. Он незамедлительно пришёл, мы открыли рану. К сожалению, моё подозрение подтвердилось: это вспыхнула газовая гангрена. Удалили наложенное приспособление, ввели необходимое лекарство, но процесс так быстро распространялся, что мы были бессильны помочь. Расстроенные, мы стояли у его постели. Ваня был в полном сознании, боли не ощущал и, глядя на меня, сказал: "Доктор! Я знаю, что Вы мне поможете". А мы уже не могли ему ничем помочь. Он умер на наших глазах. Переживали это событие все сотрудники отделения, и, чувствуя, что что-то происходит, все раненые в большой общей палате притихли и никто не спал. Наши нервы не выдержали. Я и дежурные сёстры плакали горькими слезами, собравшись в перевязочной. Пришёл начальник отделения Туменюк: "Девочки! Вам на всю войну слёз не хватит". Это всё, что он мог сказать нам в успокоение.
Через несколько дней к нам поступил ещё один раненый с анаэробной инфекцией ("закон парности случаев"). Это был солдат лет сорока. У него был типично выраженный столбняк. Ему была введена профилактическая доза (1500 АЕ) противостолбнячной сыворотки. Эта сыворотка вводилась всем без исключения раненым на самом первом этапе медицинской помощи. Источником заболевания являлось слепое осколочное ранение плечевого сустава с повреждением головки плечевой кости.
Нам в мирной жизни не пришлось встречаться с больными столбняком, но у него были характерные симптомы этого заболевания, описанные в учебнике. Это и "маскообразное" лицо, и судорожные подёргивания мышц лица и туловища при таких раздражителях, как свет и громкий звук, невозможность говорить и глотать. Мы создали ему все условия: поместили одного в изолятор, исключили все раздражители, прикрепили для ухода за ним медсестру. обучив её, как нужно его кормить. Из лекарств стали ежедневно вводить противостолбнячную сыворотку в дозе 3000 АЕ. Тщательно следили за раненым, как он её переносит, так как в арсенал лечебных средств сыворотка не входила. Раненый стал быстро поправляться. Однажды, когда я была в палате, я услышала громкие голоса у нашего изолятора. Дверь отворилась, и в палату вошли главный хирург фронта профессор Банайтис в сопровождении начальника отделения. У меня невольно вырвалось: "Тише!". Он подошёл к раненому, посмотрел на окружающую обстановку и вышел, не сказав ни слова. Что заставило прийти к нам такое высокое начальство, я так и не узнала. Видимо, он узнал, что мы выписываем из аптеки большое количество противостолбнячной сыворотки, что необычно для стационарного госпиталя. С нас ничего не спросили, видимо, по принципу "победителей не судят". Права ли я была, делая это, не знаю, но больной поправился. Он оказался приятным человеком, с весёлым и общительным характером. Мы перевели его в свою палату на койку в "фонаре". Рана его не беспокоила, и мы готовили его к эвакуации в тыловой госпиталь. Он попросил меня сделать ему операцию у нас, а затем уже долечивать его перелом. Рана в область плечевого сустава была обработана в медсанбате, рассечена, удалены осколок и другие инородные тела, но оставалась верхняя часть головки плечевой кости, удерживаемая круглой связкой. Она не могла срастись с повреждёнными костями, но почему-то удалена не была. Технически это было сделать нетрудно. В результате она омертвела и была чёрно-коричневого цвета. Без рассечения раны и, даже без обезболивания, мы её удалили. Но буквально через несколько часов после этого у раненого вспыхнула газовая гангрена. Яркие языки её распространились на надплечье и шею. Видимо, анаэробная инфекция находилась в этой головке, вызвав столбняк и гангрену. Летальный исход наступил очень быстро, и мы опять были бессильны.
Не менее тяжёлыми были раненые с повреждением магистральных сосудов, питающих нижние конечности. Эти ранения обычно сопровождаются обильным кровотечением, требующим перевязки повреждённых сосудов. Но это, как правило, приводит к нарушению кровообращения в конечности, её омертвению и последующей ампутации. А решиться на ампутацию пострадавшим было крайне трудно, часто они от неё отказывались. Между тем, омертвевшие ткани конечностей вызывают отравление всего организма продуктами распада, и в такой критический момент раненому уже трудно перенести операцию ампутации. И все-таки ради спасения жизни на такие операции приходилось идти.
Доставили в отделение совсем молодого солдатика Митю Чаукина. Ему лет 18, но выглядел он совсем ребёнком, да ещё и больным. На нём громоздкая гипсовая повязка от подмышечной впадины до кончиков пальцев стопы. Он ранен осколком в область паха. Осколок, задев сосудистый пучок, который питает все ткани ноги, повредил головку бедренной кости и застрял в ней. Рана сильно кровоточила, наложить жгут не представлялось возможным, и с давящей повязкой его срочно доставляют в медсанбат. Перевязывают сосуды, удаляют осколок и фиксируют ногу шиной. Уже в ближайшем ППГ (полевом передвижном госпитале) ему предлагают ампутировать ногу, так как высокая перевязка магистральных сосудов грозит омертвением конечности. Митя категорически отказывается. Ему заменяют шину гипсовой повязкой и быстро эвакуируют по этапам. Так он попадает в СЭГ-290.
Даже при беглом осмотре видно, что он тяжёлый больной. Он бледен, лицо отёчно, ткани пастозны. Свободные от гипса пальцы стопы холодны, безжизненны и отёчны. Сам раненый вял, слаб. Налицо состояние резкой интоксикации, малокровие. Анализы крови это подтверждают. Мочеиспускание не нарушено, анализ мочи - без резко выраженной патологии. Это может позволить сделать при надобности переливание крови. Снята гипсовая повязка. Перед нами мёртвая нога у живого человека! На ампутацию он уже согласен, но как делать операцию при таком общем состоянии! Обсудили ситуацию. решили делать ампутацию ради сохранения жизни, но и с большим риском - вынесет ли он её?
Процесс операции оказался сложным, так как повреждение было высоко расположенным и требовало не ампутации, а эксартикуляции (вычленения конечности). Кроме того мёртвые и живые ткани соседствовали очень близко, а нужно было сохранить как можно больше живой ткани, чтобы закрыть образовавшийся дефект. С трудом, но всё удалось сделать. Хотя и с риском, наложили сближающие края раны швы с поставленными выпускниками для оттока раневого содержимого. Раненый удовлетворительно выдержал эту операцию. Теперь надо было помочь организму выйти из состояния интоксикации и помочь ране зажить. Помощниками в этом были возраст больного, его стремление выжить и помощь сестёр милосердия, в руки которых он переходил.
А сёстры делали всё возможное, чтобы вырвать Митю из рук смерти. К работе палатных сестёр подключились и сёстры перевязочной и операционной. Все они после своей основной смены шли в его палату, помогали ему, подкармливали его из своего скудного продовольственного пайка, морально поддерживали его. Кроме них помогали справиться с Митиной проблемой и соседи по палате. А командир Матвеев перешёл из командирской палаты в большую палату на койку рядом с Митей. Он до войны работал учителем сельской школы, и лучшего наставника для Мити не нужно было и желать. Ведь Мите предстояло идти по жизни, будучи тяжёлым инвалидом, и надо было уметь как-то приспособиться к этому. Приложенные усилия дали свои плоды. Он стал быстро поправляться, рана зажила полностью без осложнений. Лежал наш солдатик румяный, весёлый и не задумывался о том, что ждёт его впереди. Такого внимания, заботы и ухода этот мальчик не видел даже в детстве, живя у родителей-крестьян в деревне Рязанской губернии.
Мы держали Митю в госпитале дольше положенного срока, но никто нас не осуждал. Стали обучать его передвигаться на костылях, но это давалось ему трудно. Я случайно узнала, что известный в Москве ортопед Чаклин не эвакуировался и продолжает работать в своей клинике. Я обратилась к начальнику госпиталя Гиллеру с просьбой помочь Мите сделать протез. Он написал направление на консультацию и предоставил машину отвезти Митю в клинику. Но надо было привести его в порядок, постричь, отмыть от шелушившейся кожи. На обходе говорю Мите: "Я не могу больше видеть такого грязнулю в палате. Сегодня тебя отмочат и отмоют в ванной". Он этого избегал под разными предлогами. Я ушла в перевязочную, но вдруг приходит няня и просит меня зайти в ванную. Прихожу и вижу Митю на руках у двух санитаров, стоящих около ванны в полной растерянности. Он взбунтовался, когда санитары стали опускать его в ванну с водой, начал сопротивляться, стараясь выскользнуть из их рук, извивался, как змеёныш. Спрашиваю, почему он так себя ведёт. Оказалось, что он боится кровотечения из раны, которое у него было раньше. "Чего же тебе бояться, рана полностью зажила, и ты уже ходишь на костылях?" В ванну он всё же лёг - под мою ответственность и в моём присутствии. Отмок, отмылся и довольный улёгся в чистую постель.
Потом была поездка к ортопеду. Посмотрели, сняли мерку. Потом ездил ещё раз - делали примерку готового протеза. Предстояла ещё одна поездка - получать протез и учиться им пользоваться.
Но время шло быстро и наше пребывание в Москве подходило к концу. Предстоял новый переезд на освобождённую территорию. Шестого марта 43 года умерла моя тётя, и я получила отпуск на три дня для её похорон. Когда я вернулась в госпиталь, то уже поступил приказ о нашем отъезде в район освобождённой Вязьмы. Все раненые были эвакуированы в другие госпиталя. Не было в отделении ни Мити Чаукина, ни Матвеева. Осталось неизвестным, сумел ли Митя получить свой протез. Если с ним вместе остался Матвеев, то он помог бы ему. Оба они остались в моей памяти на всю жизнь. Хотелось бы спросить, живёшь ли ты, Митя. Сумел ли приспособится к тяжёлой жизни инвалида?
В ноябре 1941 года враг на западном направлении был остановлен. Наши войска приступили к освобождению районов ближайшего Подмосковья, захваченных противником. Наш СЭГ продолжал напряжённо трудиться. К нам стали поступать раненые, оказавшиеся на оккупированной территории. Вспоминается такой случай.
Санитары укладывают молодого человека с ампутированными ногами. Вместо них торчат две коротких культи в области верхней части бёдер. Это тонкие "палочки", обтянутые истончённой кожей, которой прикрыты бедренные кости. Мышц нет, они атрофированы. Раненый бледен и истощён.
Все присутствовавшие в перевязочной собрались вокруг него, с сочувствием и жалостью смотрят на него. Он заметил нашу реакцию и вдруг громким голосом сказал: "Что вы так испугались? Ведь я жив, понимаете, жив! Значит буду жить и дальше!! Позже он нам поведал свою историю. Он служил в разведке нашей действующей части в районе Можайска. Получили задание разведать, что за немецкая часть квартирует в одной из наших деревень на занятой врагом территории. Была послана группа разведчиков из трёх человек, он в их числе в качестве радиста (до войны он учился на третьем курсе технического института в Новосибирске). Подошли к деревне ночью, решили зайти в крайний дом, где немцев не было. Но в это время в деревню въехали вражеские мотоциклисты. Разведчики спрятались в погребе на задворках. Двое из низ вышли, чтобы разузнать обстановку. Радист закопал рацию и свой комсомольский билет в землю и стал ждать. Было тихо, потом он услышал немецкую речь у входа в погреб и бросил в направлении входа две гранаты. Раздался сильный взрыв и он потерял сознание. Очнулся он на полу холодного дома, укрытый старыми ватниками. Только к вечеру пришли две женщины из деревни, принесли воду и пищу. Рассказали, что когда ушли из села немцы, они обнаружили у входа в погреб четыре немецких трупа, а в самом погребе лежал советский солдат, весь в крови, а рядом лежат оторванные ноги. Сам он был без сознания и вот тогда они перенесли его в пустовавший дом. Женщины предупредили его, чтобы он вёл себя тихо, так как было опасно для всех, если его обнаружат немцы.
Так он и прожил до прихода наших наступавших от Москвы войск, и был доставлен к нам в СЭГ. Нам известно продолжение истории его жизни. После войны он закончил институт в Новосибирске, защитил диссертацию и остался работать преподавателем в родном институте. История его ранения (подвига!) была напечатана в местной газете.
Мы, работавшие в госпитале, располагавшемся на фронтовой территории, но в тыловой его части, очень переживали, когда к нам поступали раненые коллеги из медучреждений, работавшие ближе к передовой и на самом поле боя. Им, следовавшим за сражавшимися войсками на передовой, приходилось не только оказывать медицинскую помощь раненым, но и часто принимать непосредственное участие в сражениях. Их жизнь была под непосредственной, ежеминутной угрозой.
 Военврач III ранга А. Ефремов |
Хочу рассказать об одном случае, когда был тяжело ранен молодой врач Саша Ефремов. |
Совершая очередной рейд 19 декабря 41-го года, генерал Доватор был убит. Вынести с поля боя тело убитого командира было поручено Ефремову. Поле было белым от снега. Враг непрерывно обстреливал это место, усиливая огонь при малейшей попытке передвижения. Только с наступлением темноты им удалось подползти к телу командира и вынести его в расположение полка. Гибель командира потрясла всех, но корпус только усилил свои действия, и рейды продолжались. На другой день Ефремов с товарищами оказали помощь своим раненым и стали возвращаться. Немцы опять начали обстрел и ранили Ефремова в левую руку. Предплечье было полностью раздроблено, рана кровоточила. Он испытывал сильнейшую боль, но ещё держался на ногах и отдавал необходимые распоряжения. Ему наложили повязку и перевезли в медсанчасть. Здесь товарищи врачи обработали рану и срочно направили в госпиталь. На другой день после ранения он поступил в СЭГ-290.
Состояние было очень тяжёлым. Мучили боли в предплечье и фантомные боли в кисти руки, которой уже не было. Общее состояние страдало от большой кровопотери и от присоединившейся инфекции, обусловившей подъём температуры.
Опасаясь возникновения газовой инфекции, его поместили в анаэробное отделение, где сделали операцию и обработку раны с широким рассечением тканей. В скором времени возникли повторные кровотечения, что вынудило хирургов произвести радикальную операцию - вычленение плечевой кости.
Таким образом, Саша Ефремов полностью лишился левой руки. Для него это было полной трагедией, так как он больше не мог быть хирургом. Он выделял эту область медицины из всех остальных. Стремясь стать военным хирургом, он ещё до войны перешёл учиться на военный факультет. Теперь после трагедии его ждала демобилизация из армии, да ещё в то время, когда его труд был так нужен. Его ждали далеко не радужные перспективы и в личной жизни. Все эти нерадостные душевные переживания не могли способствовать быстрейшему заживлению раны и улучшению общего состояния. Но этот ещё такой молодой и на вид хрупкий человек обладал могучей силой воли, которая была направлена на то, чтобы вновь стать полноценным членом общества. Огромную роль сыграла и моральная поддержка товарищей по профессии. Они лечили его, окружив вниманием и заботой.
С помощью начальника госпиталя В. Е. Гиллера решили оставить врача Ефремова в действующей армии. Но для этого нужно было поменять специальность хирурга на другую, чтобы он мог работать с такой инвалидностью.
 В. Е. Гиллер и А. Ф. Ефремов |
На поправку потребовалось длительное время. Наконец его выписали из госпиталя и направили в Московский институт усовершенствования врачей, где он получил специальность рентгенолога. Во второй половине 42 года он был зачислен в штат СЭГ-290 и проработал с нами рентгенологом до марта 43 года, до отъезда госпиталя в Вязьму. |
В конце 41-го года ещё более напряжённой стала работа палатных медицинских сестёр. Они должны были вовремя накормить раненых, обслужить их, быть ко всем предельно внимательными и, главное, бдительно следить за возможными переменами в состоянии раненого (появление боли, повышение температуры и т.д.) и своевременно сообщать об этом врачу. А число раненых на каждую сестру значительно возросло.
В один из напряжённых дней, когда поток раненых был особенно большим, к нам под конвоем привели пленных немцев, человек двадцать. Это была наша первая "личная встреча" с врагом. Мы должны были их осмотреть и оказать необходимую медицинскую помощь. Таков был приказ начальника госпиталя, который мы должны были выполнить несмотря на то, что в отделении скопилось много ещё не осмотренных наших бойцов. Приказ есть приказ! Мы его, конечно, выполнили. Пленные сначала смотрели на нас с недоверием, потом успокоились и вели себя дисциплинированно и тихо. В разговор с врагом, мы, конечно, не вступали и, быстро их осмотрев и перевязав, отпустили. Они не ожидали такого гуманного отношения к себе, так как сами были лишены чувства гуманности.
По решению международных конференций в Женеве и Гааге было принято, что во время военных действий враждующим сторонам запрещается наносить артиллерийские и авиационные удары, а также вторгаться в пределы медицинских учреждений, где находились раненые. Опознавательный знак их места расположения - белое полотно с красным крестом посредине. В госпитале, следуя этому правилу, выкрасили крыши корпусов белой краской, а посредине каждой нарисовали красный крест. Рядом с перевязочной на земле расположили большое полотно, сшитое из простыней с огромным крестом из красной ткани в центре. Однако это не спасло госпиталь от фашистской бомбардировки. Скорее наоборот, послужило целью. Ведь для фашистов "законы не писаны!" В дальнейшем опознавательные знаки медучреждений не применяли.
Кроме опознавательных знаков фашистов привлекали также транспортные потоки: санитарные и грузовые машины, подводы и железные дороги, которые привозили и увозили раненых. Здесь изменить что-либо было невозможно. И госпиталь подвергался вражеским бомбардировкам и в Вязьме и в Москве.
Организация и лечение раненых в Красной армии считалось лучшим, чем в армиях других стран. Благодаря этому удавалось возвращать в строй большое количество бойцов. Знали это и фашисты и ставили себе целью уничтожение раненых. В средствах достижения цели они не стеснялись.
Младший обслуживающий персонал
Работа младшего обслуживающего персонала, состоящего в основном из женщин-вольнонаёмных, добровольцев заслуживает самых больших похвал. Ведь каждая из них в любом раненом видела своих родных и близких: отца, мужа, сына, сражавшихся на фронте.
Иногда они приходили со своими маленькими детьми, которых не с кем было оставить дома, а школы не работали, да и в надежде их подкормить. Всё население Москвы находилось на строгом продовольственном пайке, очень скудном, его хватало только на то, чтобы поддерживать жизнь. Кстати, и в действующей армии тоже были разграничения: бойцов на передовой и в госпитале старались кормить лучше, у медперсонала в госпиталях был, наверное, самый маленький паёк. Так что неудивительно, что все думали, где бы добыть пропитание. А матерей ещё больше заботило, как прокормить вечно голодных детей.
На всю жизнь врезался в память образ одной девочки лет семи. Звали её Аня, приводила её мама, с которой они жили вдвоём. Отец с первых дней был на фронте, и они не имели о нём сведений. Аня - тоненькая, живая и сообразительная, быстро осваивала работу взрослых: она помогала раненым сделать личную гигиену, перестилала их постели, кормила их. Раненые её очень любили, пытались её подкормить, но она категорически отказывалась. Тогда они стали прибегать к хитростям: они отделяли кусочки от еды и оставляли их на тарелках, которые Аня собирала, чтобы отнести в моечную. Вот тут она не выдерживала и доедала оставшуюся пищу. В свободное время Аня развлекала раненых, напевая песенки. Все её любили и ждали её прихода. Помогала она и врачам - подавала им тарелки с едой во время завтраков и обедов. Бывало, спросишь: "Чем сегодня будешь кормить?" Она с сокрушённым видом отвечает: "Обратно пшенная каша без ничего". Эта её фраза у нас так и осталась как поговорка.
Исчезли они с мамой как-то внезапно, перестав приходить. Причину мы так и не узнали, о плохом думать не хотелось. Но образ её я храню в своей памяти как и, думаю, многие другие, кому повезло встретиться с ней в самые тяжёлые для них минуты жизни.

|
Среди добровольных помощников была группа художников-женщин (мужчины в это время были на фронте). Они также помогали обслуживать раненых, но кроме этого старались запечатлеть образы пострадавших на поле боя защитников. Видимо, по просьбе командования госпиталя они также делали портреты медработников. Акварельный портрет одной из наших операционных сестёр был напечатан на обложке журнала "Огонёк". Как-то после затянувшейся ночной смены ко мне подошла одна из художниц с просьбой попозировать. Я очень устала, хотела спать и отказалась. Но она настояла, и портрет всё же был сделан. Все портреты попали на госпитальную выставку. После её окончания мне передали мой портрет, и одновременно приказом по госпиталю №1 от 31.12.41 меня наградили грамотой "За образцовую хирургическую помощь раненым". |
 |
Наступил Новый 1942 год. Госпиталь всё ещё продолжает работать в Москве. Но теперь мы уже могли оставлять у себя всех нетранспортабельных раненых, лечить их.
Поток раненых оставался большим, так как к нам по-прежнему поступали раненые со всего западного фронта. Правда в это время мы уже не обслуживали раненых с Калининского и Юго-Западного фронтов, а также нас разгружали дополнительные СЭГи, работавшие в Москве. Поэтому мы получили возможность оставлять у себя нетранспортабельных раненых и долечивать тех, кого мы сами оперировали. Обстановка в самой Москве из фронтовой переходила к более мирной. Стало и безопаснее, так как бомбардировки прекратились. Постепенно люди начали возвращаться из эвакуации.

|
Сентябрь 1942 года. Сзади меня - рентгенотехник Анатолий Денисов. Остальные - раненые: слева Александров Михаил Григорьевич, справа - Веремеев Иван Иванович - первые орденоносцы Битвы за Москву. На заднем плане легкораненые, они же - санитары. |
Хирург Галина Петровна Зеленова. Мы с ней встретились в дни обороны Москвы. Спокойная, трудолюбивая, хорошо подготовленный врач-хирург. В её лице было что-то такое, что привлекало к себе внимание. Пожалуй, это были её глаза. Они были как бы распахнуты и при разговоре глядели прямо в глаза собеседнику. Именно это и привлекало, вызывая доверие к ней. Она жила и работала в Москве. В первые же дни войны - на фронте. Единственный сын, Костя, студент второго курса института добровольцем тоже ушёл на фронт. Оба были на Западном фронте, переписывались. Писали часто и аккуратно. Но вдруг, писем от Кости не стало, это встревожило мать, почувствовавшую беду.

|
И вот однажды её вызвали в сортировочное отделение. На носилках лежал её Костик. Живой! Он спал, и она не тревожила его сон, смотрела на сына. Зато потом они долго не могли насмотреться друг на друга и наговориться. У него было ранение бедра с большим многооскольчатым повреждением кости. Рана осложнилась нагноением, что ещё больше утяжеляло его общее состояние. Галина Петровна всё это понимала и просила начальника госпиталя оставить сына на лечение в СЭГе, а не эвакуировать в тыл. Борьба за его жизнь и ногу заняла несколько месяцев. После сложнейшей операции он начал поправляться. Стал передвигаться на костылях, затем с палкой и, наконец, встал на обе ноги. Ему помогли молодость, желание быть полноценным человеком и, конечно, забота матери. |
В дальнейшем, уже после войны, на все ежегодные встречи ветеранов СЭГа обязательно приходил наш благодарный пациент, бывший раненый Костя Зеленов.
Во второй половине февраля 1943 года началось освобождение Вяземского района. 12 марта была освобождена Вязьма, и уже решался вопрос о том, куда передислоцировать СЭГ-290, которому надлежало обслуживать войска Западного фронта. В начале февраля 1943 года командование фронта решило вернуть госпиталь в район Вязьмы.
Все раненые, находившиеся у нас на излечении, были перенаправлены в другие госпитали, ставшие уже тыловыми. Многие раненые к этому времени выздоравливали и уходили на фронт в свои боевые части.
Прощание с нашими пациентами было трогательным. От многих впоследствии мы получали благодарственные письма и сообщения об их делах, об их жизни на гражданке. Образы этих замечательных людей хранит наша память по сей день.

|
Коллектив сортировочного эвакогоспиталя №290 за самоотверженную работу по спасению жизни и здоровья раненых во время обороны Москвы в 1942 году получил от командования Западного фронта переходящее Красное знамя, которое с достоинством удерживал до последних дней Великой Отечественной войны. Сейчас это знамя хранится в Центральном музее Вооружённых Сил России. Все работники нашего госпиталя получили медали "За оборону Москвы", многие удостоены боевых орденов. |
| |

| |
В ЭТОМ ЗДАНИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА ПО МАРТ 1943 ГОДА ДЕЙСТВОВАЛ 290 СОРТИРОВОЧНЫЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ЗАПАДНОГО ФРОНТА САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ ВОЕННЫХ МЕДИКОВ ГОСПИТАЛЯ БЫЛИ ВОЗВРАЩЕНЫ В СТРОЙ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ |
Строительство госпиталя в Пыжовке
В феврале группа из 30 работников СЭГа выехала для уточнения будущего расположения госпиталя. Но эта задача оказалась ещё трудней, чем в июле 1941 года. С трудом можно было поверить в масштаб разрушений: Вязьма была практически уничтожена, от Вязьмы-Новоторжской также остались только руины. После долгих поисков выбор остановили на станции Пыжовка, расположенной в 12 километрах от Вязьмы. Там ещё сохранились разбитые железнодорожные пути, их можно было восстановить, чтобы обеспечить эвакуацию раненых в тыловые госпиталя.
Госпиталь решили развернуть в пыжовском лесу, в трёх километрах от станции. В нём сохранились не обстроенные котлованы и площадки для аэродрома лёгкой авиации. К концу февраля группа работников СЭГа вернулась в Москву, где и был утверждён план перебазирования. Госпиталь начал свёртывать свою деятельность в Москве, готовясь к переезду в "родные" для него места. Для развёртывания госпиталя отводился короткий промежуток затишья в боевых действиях в этом районе фронта. Обе воюющие стороны были уже не в состоянии вести их. Какой нужен был труд людей, чтобы организовать огромный госпиталь: построить помещения, подъездные пути, обеспечить светом, теплом, водой и многим другим.
И вот, 10 марта 1943 года нас погрузили в машины, личные вещи нас не обременяли, я только захватила из дома небольшое лёгкое и очень тёплое одеяло. Оно оказалось самым необходимым в новых условиях нашего существования. Дорога проходила по автотрассе Москва - Минск. К вечеру того же дня мы оказались в пыжовском лесу, в той самой его части, где располагались заброшенные котлованы, и где должен был возникнуть новый госпиталь.
Я в детстве общалась с лесом, но не с таким могучим и не в такое время года. Сейчас был период, когда лес просыпался от зимней спячки и набирал силы, чтобы вновь "молодеть, зеленеть и цвести". И хотя вокруг лежало ещё много снега, всё же воздух был особенно свеж, и дышалось легко.
Начали свою службу наши хозяйственники. Для нашего обитания уже стояли брезентовые походные палатки с металлическими печками. На полу лежали доски и стояли деревянные топчаны для сна. Было сыро, а тепло было только у печки. От наружных пологов палатки веяло холодом. Спать легли, не раздеваясь и укутавшись в имевшиеся тёплые вещи и, конечно же, в свою шинель! Не даром нам говорили, посвящая в военную жизнь: "никогда не расставайся с оружием, шинелью и сапогами". Позже появились матрацы и подушки, и мы уже привыкли к походной жизни. На утро нас всех отправили на лесозаготовки, нужно было заготовить много брёвен и досок. Всё это мы должны были добывать сами, для чего и был у нас пыжовский лес.
Он располагался в двух - трёх километрах от нашей стоянки. Это был старый густой лес с высокими ровными стволами, тянувшимися к небу. Вот их-то нам и предстояло пилить у корней и валить. Лесорубов в штате госпиталя не было, и руководить нами, врачами и санитарами, было некому. Энтузиасты-самоучки обеспечили нас пилами. Они же потом построили лесопилку, где добытые нами брёвна превращались в доски. Мы, женщины, работали наравне с мужчинами, но потом нас снабдили топорами и перевели на очистку брёвен от сучьев.
Работали все дружно, с энтузиазмом, как делали всё на войне, а лесной воздух нас ещё подбадривал. Становилось по-весеннему теплее, снег таял, под ногами становилось сыро и скользко.
Когда мы заготовили достаточное количество материала, нас перевели на строительство землянок, в которых и должны были работать все отделения госпиталя. Землянки строили на основе имевшихся котлованов, которые надо было укрепить брёвнами и обшить стены досками.
Каждый котлован имел 50 м в длину, 25 м в ширину и 3 м в глубину (2/3 располагалась в земле и 1/3 - над поверхностью). Вход в землянку был с одной стороны, выход - с другой, чтобы избежать встречного потока.
Котлован закреплялся за профильным отделением, и оно строило помещение для себя.

| Строительство землянок в Пыжовском лесу летом 1943 года |

|
На строительстве землянки черепно-мозгового - четвёртого отделения. Слева - начальник отделения А. А. Шлыков |
Молодые здоровые девушки выполняли все работы по строительству. Нам же, старшим, предстояло оборудовать крышу землянки. Железа даже наши "всемогущие" хозяйственники достать не могли. Мы устанавливали стропила, обшивали их досками и на них наносили слой вара, разогретого в особом чане. На крышу нам его подавали в вёдрах, мы их опорожняли и размазывали слоем 2 -3 см. Покрыв, таким образом, довольно большую площадь, мы увидели, что эта чёрная поверхность блестит на солнце и может оказаться "привлекательной" для вражеской авиации. Тогда поверх вара мы стали накладывать зелёный дёрн. Это была очень трудоёмкая работа. Тем ужасней оказалась ситуация, когда после ливня крыша стала протекать.

| Через всю территорию протянулась узкоколейка, и по ней побежал электровоз с вагонетками для перевозки раненых из отделений в эвакоприёмник на станции Пыжовка |
Между тем весна вступила в свои права, стало тепло, сухо и зелено. Строительство заканчивалось. Появились холодная и горячая вода, электричество, в землянках построили печи для обогрева помещений. Все отделения просушивались и обставлялись, готовясь к приёму раненых. Приходилось удивляться и восхищаться инициативностью и выдумкой начальника госпиталя Гиллера и его помощников, особенно заместителя по хозяйственной части Степашина. Это был очень скромный человек, видимый только по его делам. Среди помощников у него не было хозяйственников, только молодые фельдшера.

|
У входа в землянку
|
Посмотреть на чудо, созданное в лесу, приехали даже медики из союзных войск: американцы, англичане и канадцы. Они ознакомились со всем госпиталем, особенно внимательно - с черепно-мозговым отделением, которым руководил известный нейрохирург профессор Шлыков из Московского института нейрохирургии имени Бурденко.
Мы, рядовые врачи госпиталя, видели гостей только мельком, когда они прибыли в СЭГ, а затем нас отправили "погулять" в пыжовский лес, где раньше мы работали на лесозаготовках. На этот раз мы просто ничего не делали до вечера, когда гости уже отбыли. Так мы и не поняли, почему так поступило с нами начальство госпиталя.

|
Апрель - май 43 г. У входа в землянку отделения № 4. Слева - заведующая челюстно-лицевым отделением Н. А Полушкина (Герасина), справа - А. А. Шлыков; вольнонаёмные - строители землянок |
В плане ещё оставалось обеспечить персоналу госпиталя условия для зимнего существования. Для медсестёр была вырыта - ими же - землянка. Врачей из палаток переселили в деревянный барак, каркас которого был обшит досками, но не утеплён. Для обогрева имелась кирпичная печь. Мы топили её круглые сутки, но не могли согреть всего помещения и основательно мёрзли. Наконец, добились того, чтобы барак был снаружи обмазан глиной, хотя бы относительно утеплившей его.

| Апрель - май 43 г. На строительстве землянки отделения №3 - ходячих раненых. В центре - начальник отделения Николай Иванович Минин. Первая справа П.Е.Казакова - старшая сестра отделения. |
Наш "отдых" подошёл к концу. Начались военные действия. Контрнаступление Красной Армии продолжалось, но враг ещё отчаянно сопротивлялся. Опять несли потери. Поток раненых опять стал большим, и работа шла в неослабевающем темпе.
Поток раненых в лесном Пыжовском госпитале
Конечно, это не были условия московского Лефортовского госпиталя, но когда мы обустраивали свой лесной Пыжовский госпиталь, были созданы максимально хорошие условия для раненых и для работы обслуживающего их персонала.
Для меня строительные "подвиги" обернулись потерей и без того не очень хорошего здоровья. Как-то после окончания ночной смены я обнаружила "неполадки" в своём сердце, но, как всегда, у нас не было времени лечиться самим. С большим напряжением мне пришлось побороть свой недуг и продолжать работу, но уже без лесозаготовок.
У нас были условия, чтобы не только осматривать раненых, но и оперировать их, если они в этом нуждались. Характер ранений не изменился, опять у нас, к сожалению, были "новые Мити Чаукины". И опять совсем молодым бойцам приходилось прибегать к ампутациям по поводу гангрены нижних конечностей. Среди раненых были и взрослые, но они могли решать эту тяжёлую для них проблему сознательно. Молодёжь была неподготовлена, рядом с ними не было родителей, которые могли бы их поддержать. И эта роль опять отводилась медперсоналу.
После войны прошли десятилетия, а я помню всё до мельчайших подробностей.
К нам поступил такой же молодой солдатик, как Митя Чаукин. Звали его Володя. Он был призван в армию сразу же после выпускного экзамена в средней школе. У него было слепое осколочное ранение бедра в паховой области. Были повреждены магистральные сосуды, питающие конечность, и перелом головки бедренной кости. Из-за сильного кровотечения сосуды пришлось перевязать. Хирург, конечно, понимал, чем это грозит раненому в будущем, то есть омертвением конечности из-за нарушения питания тканей. Но он не стал предлагать и тем более делать ампутацию конечности. Наложив гипсовую повязку и подробно описав характер ранения и помощь, которую ему оказали, его быстро отправили из медсанчасти в госпиталь, где бы могли его наблюдать. Вот теперь этот вопрос предстояло решать нам, так как налицо имелись не только признаки омертвения ноги, но и отравления организма продуктами распада тканей. Тянуть с операцией было уже нельзя. Когда мы сообщили Володе о необходимости ампутации, он отнёсся к этому очень спокойно, видимо не представляя себе ясно, чем это грозит ему в будущем. Я спросила, где сейчас могут находиться его родители. Он сказал, что его отец работает на большом заводе в городе Горьком (теперь Нижний Новгород). Но у нас не оставалось времени связаться с ним. Любому врачу, которому приходится делать калечащие операции, после которых наступает пожизненная инвалидность, морально очень тяжело, хотя операция и оправдана, так как она делается ради спасения жизни. Володе операцию сделали, он перенёс её хорошо и был эвакуирован для продолжения лечения в тыловой госпиталь.
В этот же период к нам поступили ещё два раненых с подобными ранениями (это профиль нашего отделения). Оба раненых были взрослые люди, с жизненным опытом. Один из них, 45-ти лет, задавал вопросы, выясняя, что ещё можно предпринять, чтобы избежать ампутации, но так как он сознавал тяжесть своего состояния, операция была сделана. Прошла она без осложнений.
Ещё один раненый поступил в большой гипсовой повязке. При осмотре обращали на себя внимание одутловатость лица и бледность с сероватым оттенком кожных покровов. Стопа ноги, свободной от гипсовой повязки, была отёчной, холодной, пальцами он шевелить не мог. Налицо была выраженная анемия. Пришлось срочно делать лабораторные анализы. Его направили в палату. Я пошла посмотреть его в палате и обнаружила его лежащим на верхней койке двухэтажных нар. Спрашиваю дежурную сестру, почему его туда поместили. Она отвечает, что по его настоятельному требованию. Он говорит, что ему там будет спокойнее и лучше. К ночи того же дня у него стала пропитываться кровью повязка в области раны. Он сам об этом сообщил палатной сестре. Взяли в перевязочную, приготовились к переливанию крови. Наложить жгут на место кровотечения не представлялось возможным. Надо было срочно снимать гипсовую повязку. Состояние раненого ухудшалось с каждой минутой. Сознание было сохранно, и он сказал мне: "Доктор, я сам во всём виноват. Мне с самого начала предлагали сделать ампутацию ноги". Кровотечение из раны было с момента ранения, и ему перевязали сосуды в паховой области. "Мне все подробно об этом говорили, но я отказывался от операции, так как у меня четверо детей, и мне надо их вырастить, а оставшись калекой с одной ногой, я этого сделать не смогу. Вероятно, слишком поздно, и вы уже ничем не поможете!" Так оно и было. Он умер у нас на глазах.
В памяти стоит Дима, он выглядел совсем подростком. У него осколком по касательной срезало часть нижней стенки живота и надлобковой области. На дне раны лежала обнажённая задняя стенка мочевого пузыря с устьями мочеточников, из которых были видны пульсирующие выбросы мочи. Срезанная часть лобковых костей была некротически изменённой, коричневого цвета. Когда я подходила к его койке и встречалась с его взглядом, мне казалось, что он хочет меня о чём-то спросить. И вот, наконец, он решился и спросил: "Доктор, а дети у меня будут?"
"Конечно будут, обязательно!" - ответила я, а сама с горечью подумала про себя: "Если ты вынесешь всё, что тебе ещё предстоит". Так как не исключала, что в лобковой кости таится газовая инфекция. С остальными бедами тебе помогут справиться врачи и сёстры.
Мы его отправили в тыловой госпиталь. В Москве, это был уже тыл, были развёрнуты специализированные госпитали для лечения мочевой и половой систем. Руководил ими высококвалифицированный уролог профессор А. П. Фрумкин из больницы имени Боткина. Этим раненым делали всё возможное для их выздоровления. По характеру ранения, имевшегося у Димы, была показана восстановительная операция, которая должна была вернуть его к нормальной жизни.
Дни проходили за днями. Наш "конвейер" по приёму раненых работал по отлаженной схеме. В работе стали широко использовать помощь легко раненых, которые оставались в госпитале для долечивания. Нужно сказать, что они очень скрупулёзно относились к работе. Они не только переносили раненых, но помогали сёстрам в перевязках, наложении гипсовых повязок. Одним из таких помощников был Володя. Высокого роста, хорошо физически развит. Видимо поэтому его перевели от нас на другую, более трудную работу.
Наступила зима, ещё больше похорошел наш лес. В один из дней я пришла на работу в первую смену. Подходит старшая медсестра отделения и говорит, что надо пойти на склад, получить новое обмундирование, все его уже получили. Иду по дорожке сказочного леса к землянке-складу. Путь лежит мимо лесопилки, которая ещё продолжает из брёвен делать доски. Вижу нашего Володю, он так же старательно выполняет свою работу. Шум от работающей пилорамы разносится по лесу. Протягиваю руку, чтобы открыть дверь склада и в эти секунды у моего правого уха раздаётся свист, как от пролетающего осколка, и воздушная струя ударяет в лицо. Рядом у входа врезается в снег какой-то тёмный предмет. Мелькает мысль: бомбёжка? Но никаких самолётов не было. Я уже вошла на склад. Там тихо и спокойно, все заняты своим делом. И я забываю о только что происшедшем. Получив вещи, спешу вернуться на работу в отделение. Не надела ещё халата, а вижу, что на перевязочном столе лежит раненый, причём не в белье, как после обработки в сортировочном отделении, а в обмундировании, залитом кровью. Боже! Да это же наш Володя! Ему осколком разорвавшейся пилы срезало кожно-мышечный лоскут с правого бедра от тазобедренного до коленного сустава.
Хорошо, что не были задеты большие сосуды, он мог бы погибнуть на месте от кровотечения. Рана была на вид чистая, словно нанесена скальпелем. Решила рискнуть, наложила редкие швы, чтобы соединить края раны. Ввели все профилактические сыворотки. Подержали его несколько дней у себя, и, убедившись, что ему ничего не грозит, отправили в тыловой госпиталь для долечивания. Пока ни вставать, ни помогать нам в перевязочной он был не в состоянии. А меня опять пощадила судьба. Вывод сделала такой: каждое дело требует ответственности, тем более, когда медики берутся за строительство землянок.
Время летит быстро, особенно если его не хватает ни на что, кроме работы. На территории "Пыжгородка" был выстроен клуб. Там было проведено собрание по итогам нашей работы по строительству госпиталя. Были оглашены списки награждённых грамотами и даже орденами! Но кто их мог не заслужить, ведь все работали с полной отдачей сил!
Встретили и новый 1944 год, прошло 8 марта и Первомай, все эти дни работали с полной нагрузкой, так как война праздников не учитывала, бои шли. Только к июню 1944 года на нашем фронте вновь наступило затишье, но оно наступало, как правило, перед новыми военными действиями, ведь ещё не было освобождено много оккупированной русской земли. В июне мы смогли перейти на облегчённый график работы. Однако поступление раненых никогда не прекращалось. 23 июня 1944 года мы, свободные от работы в отделении, решили устроить себе прогулку. Слово-то какое, мы давно его исключили из нашего лексикона! Пошли посмотреть окрестности нашего городка, ведь вокруг были такие красивые места. Не успели мы расположиться на берегу протекавшей здесь реки, как посланный за нами связной сказал, что мы должны срочно возвратиться в отделение. Оказалось, что был получен приказ санитарного управления фронта о передислокации госпиталя в полном составе с имуществом на новое место. К вечеру того же дня (23 июня 1944 года) госпиталь на автомашинах двинулся в путь.
Мы простились с нашим подземным госпиталем в Пыжовском лесу, унося в своих сердцах незабываемые тёплые чувства к тому, что было создано нашими руками.
Вывезли всё, что можно было с собой забрать и что опять могло пригодиться нам на новом месте.
Вывезли даже узкоколейку вместе с электровозом, вагончиками и путями! Она потом очень пригодилась в Вильнюсе.
Остались лишь сами землянки, никем не охраняемые. А строительный материал был использован населением для восстановления окружающих разрушенных деревень.
Забегая вперёд, скажу, что связь с населением Вязьмы, где мы работали с июля по октябрь 1941 года на станции "Вязьма-Новоторжское", и с жителями Пыжовки, где мы работали с марта 43 по апрель 44 года, сохраняется до настоящего времени, по прошествии 62 лет после Победы!
На опушке Пыжовского леса в честь медработников СЭГ-290, спасавших жизни раненых, возведён обелиск. Он виден с проходящей мимо дороги. По давней традиции проезжающие машины дают протяжный гудок в память погибших в тяжёлые годы Отечественной войны. На ежегодную встречу ветеранов СЭГа к нам в гости в Москву приезжают школьники из поисковых отрядов Вязьмы. Они докладывают о произведённой ими за год работе. Их гостеприимно встречают и знакомят с достопримечательностями Москвы.

|
"Здесь в Великую Отечественную войну (19 III 43 - 19 IV 44) действовал фронтовой госпиталь №290, личный состав которого вернул в строй десятки тысяч солдат и офицеров" "Перед мужеством военных медиков преклоняемся" Такие слова высечены на обелиске, установленном школой №2 г. Вязьмы на опушке леса у деревни Пыжовка. На фото - открытие обелиска 9 мая 1974 г. На открытие приехали ветераны. На переднем плане - начальник госпиталя СЭГ-290 полковник мед. службы В.Е.Гиллер |

|
Учащиеся школы №2 постоянно ухаживают за обелиском, приносят цветы. У обелиска справа - директор "Музея боевой славы" Валерия Евгеньевна Гаврилова. Она руководит музеем более тридцати лет. Много поколений учеников вяземской средней школы ухаживают за могилами погибших защитников их земли
|
Смоленская область, деревня Шеревичи
В конце апреля 1944 года Западный фронт был переименован в III Белорусский, с новым главнокомандующим генерал-полковником И. Д. Черняховским. Происходило переформирование войск для осуществления нового плана "Операция Багратион" по освобождению земель России, Белоруссии и Литвы. Мы должны были передислоцироваться в Смоленскую область, деревню Шеревичи. Расстояние между госпиталем и линией фронта составляло 25 - 30 км, это был армейский тыл. Действовавшие там армейские госпиталя были свёрнуты и перемещались с наступающими войсками, которые они обслуживали.
На перемещение и развёртывание госпиталя отводилось четверо суток. Когда наше отделение прибыло в разорённую немцами деревню Шеревичи, нас разместили в сохранившемся деревянном доме на деревенской улице. Там у нас была развёрнута перевязочная для носилочных раненых. Через улицу напротив принимало раненых в грудь и в живот торако-абдоминальное отделение доктора Цирлиной. Все раненые были из госпиталей, которые свёртывали свою работу для переезда. Они были тяжёлыми, практически нетранспортабельными. Их доставляли партиями и выгружали прямо на улицу около перевязочной. Торако-абдоминальное отделение явно не могло справиться с такой нагрузкой, и самых тяжёлых стали направлять в наше отделение. Но у нас ни сёстры, ни врачи не были знакомы с такой работой. И вот ко мне на стол доставляют очень тяжёлого раненого в грудную клетку с обширным открытым пневмотораксом. Ему осколком бомбы была просто срезана часть грудной клетки - не только мягких тканей, но и трёх рёбер с левой стороны. Видно, на предыдущем этапе хирурги пытались закрыть дефект и наложили шёлковые швы на края раны, чтобы её стянуть. Но потом швы прорезались, и рана расползлась, а остатки швов виднелись у краёв раны. Раненый был в крайне тяжёлом состоянии, он полусидел и с трудом дышал. При вдохе воздух проникал в грудную клетку, и слышен был характерный свист от его засасывания. При выдохе из раны выливалась серозно-кровянистая жидкость. Мы вызвали врача из торакального отделения, но и он ничем уже не мог помочь. Раненый, мужчина лет 45, был в полном сознании и обратился ко мне со словами: "Я знаю, что я умру, и прошу Вас выполнить мою последнюю просьбу: передать мои ручные часы и кожаные сапоги (которые были у него на ногах) моей единственной семилетней дочери. Она живёт в Москве на улице Горького (теперь Тверская)" И назвал номер дома и квартиры. "Живёт у нашей соседки по квартире, так как моя жена умерла во время войны. Я с первых дней войны в армии, и больше у нас никого нет. Может быть, они сумеют продать эти вещи, и это им поможет"
Я не могла взять на себя такое поручение, так как, если даже останусь жива, то возвратиться сама в Москву не смогу до конца войны, а она оказалась такой продолжительной и жестокой. Вызвала старшую сестру отделения Полину Емельяновну Казакову, передала ей просьбу раненого и спросила, можно ли это осуществить? Она ответила утвердительно и обещала проследить за этим лично. Раненый умер, вещи передали старшей сестре, но я так и не узнала, получила ли их дочь - сирота в Москве. Через несколько дней СЭГ вновь тронулся в путь.
В ночь на 22 июня 1944 года были освобождены Орша и Витебск, те самые города, в которых мне пришлось побывать в последних числах июня 1941 года, когда к ним подходил враг, захватывая наши западные территории. 23 июня 1944 года началось стремительное наступление войск III Белорусского фронта. Войска продвигались на запад очень быстро, по 20 - 30 и, даже, по 50 км в сутки. На очереди был Минск.
Второго июля началась подготовка госпиталя к перемещению на белорусскую землю. 3 июля войска I и III Белорусского фронтов замкнули кольцо окружения фашистской армии, отходившей к Минску. Все уцелевшие здания в Минске были заминированы. Разграблено и сожжено здание Академии наук. Найти подходящее место для развёртывания госпиталя было невозможно. Сохранились здания Клинического городка Минского Медицинского института. Оказалось, что и они тоже заминированы. Не было ни воды, ни электричества. Были взорваны подъездные железнодорожные пути.
Палаточный городок госпиталя развернули на пустыре у сожженного здания академии наук, на самой окраине города, позади шли огороды, лес и овраги. Из лесов просачивались группы немецких солдат, пытавшихся выйти из окружения. Поэтому в госпитале была создана вооружённая охрана, которой пришлось принять участие в настоящих сражениях. Произошла и моя встреча с живыми немецкими солдатами.
Поток раненых был большим, было трудно прервать свою работу даже для еды. Выбрав минуту, я отпустила всех на обед, осталась в перевязочной одна и села за стол, чтобы закончить оформление историй болезни осмотренных раненых. Вдруг раздвигаются створки палатки, и появляются три немецких солдата с оружием через плечо. Стволы опущены вниз, это означает, что они не будут стрелять. От неожиданности я растерялась. Медленно поднимаюсь из-за стола, судорожно вспоминаю хоть одно немецкое слово, но кроме "Was ist das" вспомнить ничего не могу. Но, видимо, у моих "посетителей" запас русских слов был "богаче", и они дружно хором произносят: "Гитлер капут!" Тут меня выручает наша охрана, они врываются в палатку, обезоруживают и уводят немцев.
Наши войска теснили противника. Он отступал, активная его часть отчаянно сопротивлялась, часть была взята в плен, часть уничтожена, часть разбежалась по окрестностям в надежде спастись, сдавшись в плен.
Земля горела под ногами врага, но небо он использовал активно, нанося бомбовые удары по городу. Наша противовоздушная оборона действовала, уничтожая стервятников. В результате враг не мог наносить прицельные удары и разбрасывал бомбы в беспорядке. Однако осколки убивали и ранили, доставалось и нам. В один из дней я обедала в столовой, и вдруг опять объявляют воздушную тревогу. Сидевший со мной за столом наш врач стал уговаривать меня пойти с ним в укрытие, расположенное поблизости. Деваться было некуда и я, изменив своему правилу "оставаться на месте", согласилась. Укрытие оказалось подвалом уже разрушенного бомбой дома и использовалось по принципу "бомбы не падают в одно и то же место". Над головой было открытое небо, чистое, голубое. Но вот раздался звук фашистского самолёта, и он появляется над нами, сбрасывая бомбы в стороне от нашего госпиталя. И у меня совершенно неожиданно начинают стучать зубы. Видимо, так проявился у меня внутренний страх. А то, что я не в состоянии подавить его, и вывело меня из состояния "шока". С тех пор и до самого конца войны я уже не изменяла своему правилу никуда не бежать и не прятаться.
Через 2 - 3 дня был освобождён Вильнюс, и мы снова переезжали - уже на территорию Литвы. По сравнению с Белоруссией, деревни были разрушены меньше, жителей в них осталось больше.
Вильнюс, очень красивый, живописный древний город, возник перед нашими глазами, когда мы к нему подъезжали. Я до сих пор сожалею, что не было возможности ближе познакомиться с его достопримечательностями, так как наша работа уже ждала нас. Она занимала всё время.
В результате прошедших боёв город пострадал, так как немцы отказались сдать его добровольно. Имелись значительные разрушения зданий, и для размещения нашего госпиталя пришлось искать пристанище. Остановились на зданиях университета. Они были тоже повреждены, но исправимы для наших опытных хозяйственников. Имелась поблизости и железнодорожная ветка. Мы расположились в сохранившихся корпусах, которые быстро заполнялись ранеными, и приступили к своей работе уже через сутки после приезда.
В освобождении соседней республики продолжали помогать белорусские партизаны, которых очень боялись фашисты. Партизаны сопровождали наши наступающие войска и сражались, несмотря на то, на какой территории шли бои. В партизанских отрядах имели возможность оказывать только первую медицинскую помощь. Фельдшер перевязывал раны, а тяжелораненых приходилось с огромными трудностями доставлять с оккупированной территории.
На моём перевязочном столе лежит юный партизан. Ему лет 16 - 17, но в партизанах он с первых дней войны и сейчас действует в отряде разведчиков. О своей жизни нам всё охотно рассказывает. У него рана мягких тканей голени, и он может самостоятельно передвигаться. Наложенная ранее повязка густо пропитана засохшей уже кровью и стягивает ногу подобно гипсу. Её предстоит снять. И вдруг наш герой, прервав свой рассказ, садится на стол и обеими руками защищает свою ногу. Он боится боли, просит "отмочить" повязку водой, чтобы она легче отошла от раны.
Пришлось вмешаться мне. Я пообещала снять повязку, не причиняя боли. Деваться ему было некуда, и он согласился. Задаю ему вопросы о его жизни, о его подвигах и осторожно, послойно снимаю бинт. Рана оказалась неглубокой, кровотечение из кожных сосудов уже прекратилось. Наложенная мазевая повязка его вполне устроила. Всё прошло без эксцессов, все довольны, наш пациент опять весел. Он достаёт из внутреннего кармана трофейную самопишущую ручку с золотым пером (она, видимо, принадлежала немецкому офицерскому чину, так как это была редкость) и протягивает её мне - подарок в знак благодарности. Я отказываюсь, чтобы он сам мог ею пользоваться, когда вновь сядет за школьную парту, ведь война уже подходит к концу. Наш спор закончился в его пользу, его трофей перешёл ко мне и долго после войны напоминал мне белорусского партизана.
Ещё два момента в Вильнюсе остались в памяти. Когда мы приступили к работе, наше отделение расположилось в большом помещении одного из домов, видимо, это был актовый зал с огромными окнами во всю стену, с паркетом, высокими лепными потолками. Видимо, в результате бомбардировки здания лепнина обвалилась и часть её огромных кусков повисла на арматуре, грозя рухнуть на головы наших раненых, ждавших перевязки, осмотра или эвакуации. Я распорядилась сбить эти опасные куски, и мне для этого предоставили группу пленных немцев. С помощью шестов они сбивали обломки, те с грохотом падали вниз, создавая опасность обрушиться им на головы. Отказаться от этой работы пленные не могли, но она казалась им опасной. Надо было видеть, с какой ненавистью они смотрели на меня, забывая о том, что они хладнокровно убивали русских беззащитных людей, детей и стариков. Всё обошлось благополучно, и мы могли спокойно использовать помещение без риска для раненых.
Вильнюс хорошо сохранился, пострадали здания во время его освобождения нашими войсками от яростно оборонявшихся немцев. Пострадали и здания, которые были заминированы немцами при их изгнании. Обращало на себя внимание небольшое количество местного населения, которое, видимо, переселилось в окрестные деревни, не пострадавшие во время оккупации.
Для отдыха в перерывах между сменами врачам нашего отделения было предоставлено помещение в пустовавшем частном доме. После одной ночной смены я отправилась в этот дом. На первом этаже нам была отведена просторная комната, в которой стояло 5 - 6 заправленных кроватей. В комнате никого не было. На одну из кроватей я собиралась лечь, но вдруг услыхала осторожные шаги в соседней комнате. Дверь отворилась, и очень осторожно вошёл мужчина лет шестидесяти. Увидев меня, он удалился, поспешно закрыв за собой дверь. Видимо, это был хозяин квартиры, охранявший свой скарб. Это были мои домыслы (в лучшем варианте), но всё же я решила в этом доме не оставаться, тем более спать, и возвратилась в отделение, где мы работали. 28 июля 44 года был освобождён Каунас, и наше краткое пребывание в Вильнюсе закончилось.
Наши войска заканчивали освобождение советской территории от врага. Для нас это были границы Литвы, соседствовавшей с Восточной Пруссией. Первого августа наш госпиталь переехал в Каунас. К нашему удовлетворению в городе сохранились клиники Каунасского медицинского института. По своему устройству, планировке и оснащению они были похожи на московский Главный госпиталь Красной Армии в Лефортове, где мы работали в период обороны Москвы.
После проверки сапёрами на наличие мин, мы вселились туда, развернув все специализированные отделения. III хирургическое отделение, начальником которого был Минин, давно уже перестало быть только для ходячих раненых и наряду с ними к нам поступало много и носилочных.

|
Где бы ни базировался госпиталь, рентгеновский кабинет работал всегда. Главный рентгенолог госпиталя Трейстер с начальником черепно-мозгового отделения Шлыковым и нейрохирургом Никольским обсуждают рентгенограмму; на заднем плане - рентгенотехник Мазин |
Первое время шёл большой поток раненых, так как военные действия были активными с обеих сторон, и наша работа проходила в основном в перевязочных по сортировке. Задерживались лишь временно нетранспортабельные и нуждающиеся в операциях. Когда наши войска подошли непосредственно к границе Восточной Пруссии, наступило некоторое затишье на фронте, и поток раненых сократился. Но командование госпиталя во главе с полковником Гиллером придерживалось постоянной тактики не освобождать от раненых госпитальные койки, а переходить на их лечение в стенах госпиталя. Эта тактика имела свои положительные стороны:
повышала квалификацию персонала по лечению и уходу;
не позволяла переходить на бездеятельное существование работающих, поддерживая дисциплину в госпитале;
переводила персонал на новый график работы и освобождала от постоянной перегрузки, которая была в течение всей войны.

|
Мы как будто бы переходили на нормальное течение жизни мирного времени и "отдыхали", не прекращая трудиться. Каждый врач получал своих раненых, свои палаты и был в них полным хозяином и ответственным за свои действия. Конечно, он в любую минуту мог получить необходимую помощь от начальника отделения и других более опытных товарищей. Наведывался к нам и начальник госпиталя Гиллер и проводил свои обходы, на которых разбирались вопросы лечения и обслуживания. |
Во время обхода в палате младших офицеров произошёл один инцидент. В палате работала врач Полина Фёдоровна Синякова, она была несколько старше других врачей по возрасту. До войны она работала гинекологом, хирургических операций не делала, была очень внимательным, заботливым врачом. Её любили раненые молодые офицеры. Они видели в ней свою мать. Что пришло в голову нашему начальнику, но он прямо на обходе, в палате, при раненых стал её отчитывать за погрешности в работе.
Как мне показалось, эти погрешности не стоили того, так как ущерба для здоровья раненых они нанести не могли. Врач совершенно растерялась при этом, а её подопечные молча с сочувствием на неё смотрели. Все мы тоже молчали. Когда все вышли из палаты в коридор, тоже все хранили молчание. Мне пришли на память профессорские обходы в клинике перед войной. Профессор никогда не делал замечаний лечащим врачам при пациентах, а обсуждение правильности лечения происходило уже вне палаты, в коридоре.
Наше молчание смутило и Гиллера, он спросил у нас, кто что может сказать. И мне вдруг пришла мысль сказать ему о его неправильном поведении в палате, когда он отчитывал врача в присутствии подопечных. И я решила высказать своё мнение, по принципу, больше суток не дадут, дальше фронта не пошлют, чем бы это мне ни грозило (ведь я всего лишь подчинённая у военного начальства). Я попросила его впредь не отчитывать врача при раненых, даже, если он в чём-то серьёзно виноват. На этом обход был окончен, а через мою приятельницу он просил меня предупредить, чтобы больше я с ним так не разговаривала. Инцидент на том и был исчерпан, но обходов в наших палатах он больше не делал.


Мы работали в одной смене с П. Ф. Синяковой и Анной Павловной Медведевой, выпускницей Саратовского Мединститута 1942 года. После его окончания она была направлена в Москву и до конца войны проработала в СЭГе. Жили мы тоже вместе в небольшой комнатке, в которой стояли три узкие койки, стол и три стула. Имелась раковина с краном холодной воды, которой мы активно пользовались, несмотря на зимний холод.
Приближались ноябрьские праздники 1944 года. По этому поводу собирались общегоспитальные собрания, на которые приглашали всех свободных от работы сотрудников. В этот год сбор был назначен на четвёртое ноября. Я порядком устала за предыдущие дни, решила не ходить, а прилегла поспать. Часов около 8 вечера возвратились соседки, обе радостные и возбуждённые. На их гимнастёрках сияли ордена "Красной Звезды". Собрание было посвящено вручению наград за наш длительный нелёгкий труд во время войны. Офицерский состав награждали орденами, средний медперсонал (сестёр) - медалями. Все длительно работавшие в госпитале получали их прямо по списку. И вот, смущённо, как бы извиняясь, они сообщили мне, что моей фамилии в списке не оказалось. Я совершенно откровенно говорю, что меня это не огорчило, хотя и удивило. Я за свою трудовую жизнь никогда не думала о награде за труд, который я очень любила. Я просто выполняла свой долг! И тем более в годы войны. 7 ноября опять был сбор, отмечали день Великой Октябрьской Революции. В этот раз я пошла на праздник. У всех на груди блестели полученные ордена. Меня поразило другое обстоятельство, которого раньше никогда не было. Ко мне, вдруг, стали подходить все заместители начальника госпиталя, кроме его самого, и даже комиссар Савинов. Все выражали мне сочувствие и поддержку в связи с тем, что меня не оказалось в наградном списке, и уверяли, что всё будет исправлено в скором времени и что все документы уже поданы. Говоря откровенно, меня удивило то обстоятельство, что всё начальство обо мне знает, и это мне было приятно. Орден "Красной Звезды" мне вручал начальник госпиталя Гиллер дней через десять. В кабинете никого не было, получая орден из его рук, я сказала: "Служу Советскому Союзу", спросила, можно ли идти, и, услышав "Да", развернулась на 180 градусов и вышла из кабинета. Я так и не узнала, почему меня не оказалось в общем списке.
Спустя десятки лет после войны, при оформлении военной пенсии, в послужном списке полученном из военного архива я обнаружила, что в 1943 году во время работы СЭГа в Пыжовском лесу под Вязьмой на меня был оформлен наградной лист на получение ордена. Но по непонятной причине ордена я так и не получила.
Отечественная война растянулась на долгих четыре года. За это время наши молодые медсёстры повзрослели, как говорится, "сделались барышнями на выданье". Природа требует своего, пришло и время увлечений и любви. Стали появляться симпатии, привязанности. Недостатка в обожателях не было. Окружение состояло в основном из молодых людей - раненых. Общение с ними было очень непродолжительным и зависело от их состояния здоровья. Чем оно было хуже, тем больше они соприкасались друг с другом.
В военные годы для медперсонала были характерны отзывчивость и душевность, проявлявшиеся при лечении, уходе и обслуживании раненых. Всё это располагало к ответному чувству у подопечных. Возникали дружба, симпатии, любовь, которые у некоторых пар сохранялись надолго, даже на всю жизнь, несмотря на трудные условия военной жизни. У других они кончались при расставании.
Вспоминается один разговор между бабушкой и внучкой, молодой обаятельной девушкой. Поклонников у неё было больше, чем достаточно, но о замужестве она не думала. Бабушка ей сказала: "Вот докрутишься до 24 лет и останешься старой девой!"
Вот с такими "старыми девами" у нас складывались другие ситуации. Поклонники были тоже в более зрелом возрасте, "опытные" в любовных делах. Многие из них уже имели семьи с детьми, но выдавали себя за свободных от брачных уз "женихов", обещая более серьёзные связи, шли на обман. Некоторые даже оформляли у командования свидетельства о регистрации брака. К сожалению, во время войны браки распадались, но создавались и новые семьи, как показала жизнь, даже более прочные, отметившие впоследствии не один юбилей совместной жизни.
В период работы в Каунасе, во второй половине 1944 года в наше отделение стали поступать раненые и больные из высшего командного состава фронта, в чине полковников и генералов, с разного характера повреждениями. Вести этих пациентов почему-то было приказано мне. Я пыталась возразить, но мне напомнили, что в армии приказы обсуждению не подлежат. Наши новые пациенты фактически тоже проходили сортировку, то есть контрольный осмотр перед эвакуацией в тыловые учреждения. Осматривали их не в перевязочных, а в стационаре, и задерживались они ненадолго, на два - три дня. Я продолжала свою обычную работу по осмотру раненых в перевязочной, и дополнительная работа меня особенно не обременяла. Были и исключения, когда такие раненые оставались как нетранспортабельные и лечились у нас. В этих случаях на меня ложилась дополнительная нагрузка.
Однажды в госпиталь поступили три человека с тяжёлыми повреждениями после автокатастрофы. Старший из них, полковник Зиновьев, был заместителем командующего бронетанковыми войсками фронта, двое других были его помощниками. Один, с тяжёлой мозговой травмой был госпитализирован в черепно-мозговое отделение. Двух других с повреждениями конечностей и контузиями направили к нам. Потребовалось много времени на уточнение диагноза и лечение. Один из пострадавших через три недели был эвакуирован в Москву. Заместителю командующего с повреждением тазобедренного сустава пришлось наложить высокую гипсовую повязку. От эвакуации он отказался и остался на лечении в нашем госпитале. По мере улучшения состояния он начал выполнять свою штабную работу.
Три раза его навещал командующий III Белорусским фронтом генерал-полковник И. Д. Черняховский. Выяснилось, что они были знакомы с комсомольских лет, а затем в 1932 -37 годах учились вместе в Москве в Бронетанковой академии на инженерном факультете. Жили рядом в общежитии, дружили. С IV курса слушателям инженерного факультета была предоставлена возможность пройти одновременно курс командного факультета. Черняховский использовал эту возможность и при окончании учёбы получил сразу два диплома, и оба с отличием. Его товарищ этого сделать не смог из-за большой общественной работы, он был парторгом курса. Он тоже окончил академию с красным дипломом и был оставлен для продолжения учёбы в адъюнктуре. Но заниматься учёбой ему пришлось только шесть месяцев, так как он был назначен заместителем начальника академии по инженерной части и занимал эту должность до войны и после неё, пока по инвалидности, полученной на фронте, не был вынужден уйти в отставку в 1948 году.
Черняховский отказался от адъюнктуры и пошёл на командную должность в действующую военную часть и с первых же дней войны принимал активное участие в защите Родины. Он быстро продвигался по службе и в июле 1944 года принял командование III Белорусским фронтом. Здесь старые друзья встретились вновь.
Количество посетителей в палате увеличилось. Ежедневно под конец рабочего дня приходил начальник госпиталя Гиллер. У него вообще было правило часто бывать в отделениях. В любое время, в любую смену он неожиданно появлялся в отделении и наблюдал за нашей работой в перевязочной и в палатах. Мы только удивлялись, когда же он спит. Приходили начальники всех рангов, главный хирург Шур, начальник отделения Минин, а также офицеры из штаба фронта, которым полковник Зиновьев отдавал какие-то приказания. Всё это осложняло моё обслуживание подопечного. Я выбирала время для обхода рано утром и вечером после смены: делала назначения и контролировала их выполнение. Иногда по просьбе больного я задерживалась в его палате для "разговора по душам" о жизни вообще.
Говорят, время лечит. Лечило оно и в этом случае: исчезали симптомы сотрясения мозга, срастался перелом лучезапястных костей. Перед новым 1945 годом его освободили от обременительной гипсовой повязки. Приступили к активному лечению физиотерапевты и инструктор по лечебной физкультуре. Надо было снять боль в ноге и научиться ходить на костылях. Желание самого пациента скорее поправиться очень помогало в этом.
Наступил Новый 1945 год. Сюрпризом для всех была новогодняя ёлка, появившаяся в палате, украшенная конфетами в разноцветных бумажках. Это было самое приятное зрелище, ведь за долгие годы войны мы забыли даже, как они выглядят, тем более их вкус. Я и моя соседка по комнате стали совершать "противоправные действия" из далёкого детства, вытаскивали конфеты, не нарушая формы обёртки и не портя вида ёлки. "Всенародно уличены" мы не были, всё прошло хорошо.

|
Наш подопечный встречал новый год, уже сидя, облачённый в новый красивый американский халат, дар союзников по борьбе с фашизмом. |
Лечение дало свои результаты, костыли заменили на палку. Время летело быстро, и 22 января во время вечернего обхода мой пациент мне доверительно сказал, что наши войска, расположенные на границе Восточной Пруссии, должны начать наступление, чтобы уничтожить отборные фашистские части, сосредоточенные там.
Я пошла в свою комнату спать, но не успела даже лечь, как пришёл посыльный от начальника отделения и передал, чтобы я пошла на совещание к начальнику госпиталя. Прихожу, совещание уже подходит к концу. Обсуждается вопрос о новом перемещении госпиталя. Передовые группы медперсонала должны отбыть на другой же день. Из нашего отделения было выделено два человека, я и Полина Фёдоровна. Почему-то старшие товарищи из руководства не могут выехать из-за болезни.
Итак, 23 января 1945 года мы выехали. Наш пациент настоял, чтобы мы поехали на штабной машине, так как новое место работы госпиталя и штаб фронта располагались рядом на освобождённой части Восточной Пруссии. Между прочим сказал: "будьте осторожны, это пока передовая линия фронта".

|
Заместитель командующего бронетанковыми войсками фронта полковник Н. М. Зиновьев в рабочем кабинете 1945 год. Восточная Пруссия (ныне Калининградская область) |
Полина Фёдоровна уехала с госпитальной машиной, а я - в сопровождении посыльного штаба фронта. Выхожу из машины, оглядываюсь в поисках указателя расположения СЭГа. Вдруг ко мне подходит солдат и указывает, где я могу оставить свои вещи и отправиться сразу на работу в палатку, где уже принимали раненых.
Помещение располагалось на втором этаже двухэтажного дома. Вход - по наружной лестнице прямо с земли. В просторной комнате стояло 5 металлических коек с матрацами сомнительной чистоты, подушек не было. Положила свои вещи и ушла работать. На улице было минус 30, палатка обогревалась печью из железной бочки. Около неё было нестерпимо жарко, зато со стороны бокового полога палатки - холодно. Раненые поступали с первичной обработкой, осложнённых пока не было. В основном всё сводилось к смене повязок. Поток раненых был большим, и работа продолжалась до ночи следующего дня, пока нас не сменили другие врачи. Я поняла, что работаю с сотрудниками какого-то другого подразделения, так как знакомых лиц не было. Я устала, не ела больше суток, но есть не хотелось, хотелось пить, согреться и спать. Вернулась в помещение, где оставила свои вещи по приезде. На моём узле лежала металлическая, квадратной формы банка с мясными консервами иностранного производства. Я вскрыла её и съела маленький кусочек красного сухого мяса. Консервы мне показались подозрительными и я выбросила банку и легла на кровать, чтобы согреться и поспать до утра. Но не прошло и часа, как у меня начались сильные боли в животе, в верхней его части. Их источник было трудно определить, что-то между печенью и поджелудочной железой. Промучилась до утра и, ослабленная, голодная и уставшая, пошла разыскивать своё отделение.
Я не могу сейчас вспомнить название населённого пункта, в это время госпиталь часто менял своё местонахождение и рассредоточивался сразу в нескольких населённых пунктах. Нашла наше отделение, приехал и наш начальник Минин. Меня отвели в маленькую комнату, в которой маленькое окно с покатым подоконником и металлической решёткой располагалось высоко у потолка. Стояли две кровати и металлическая печь, которую топил прикреплённый солдат. Я устроилась на одной из кроватей. Солдат мне рассказал, что на этом же этаже расположился начальник отделения и другие сотрудники. Никто ко мне не заходил, на работу не звал. Отделение не было готово к приёму раненых, и ожидались новые распоряжения о его развёртывании. Для меня это было удобно, так как я просто не смогла бы работать в моём состоянии. Судя по всему, мы располагались в здании какого-то лечебного заведения, оставленного фашистами во время их отступления. Здание было без воды, света и тепла, даже без действующего туалета.
Ночью у меня появилась диарея как результат отравления консервами, и мне пришлось выходить на улицу. Я обнаружила какой-то сарай с открытой дверью и забегала в него.
Когда рассвело, то оказалось, что в сарае сложены штабелями трупы немецких солдат, тоже брошенные на произвол судьбы сбежавшими фашистами. Вот это и было моё третье "свидание" с фашистами, только мёртвыми. Первые два были во время обороны Москвы и в Минске.
Наконец, СЭГ был развёрнут полностью, и работал с полной нагрузкой, постоянно меняя своё месторасположение в зависимости от потока раненых между Бартенштайном и Тапиау.
При нашем переезде в Каунасском госпитале осталось немного наших пациентов и обслуживающий их персонал. Наш подопечный зам. командующего сразу решил выписываться из госпиталя и приступать к работе, тем более этого требовали обстоятельства. Но медицинская комиссия не разрешила его выписать, и его перевели в так называемое "санаторное" отделение под Каунасом. Но прошло около 10 дней, как он явился в мою комнату, одетый в форменное платье. Он бросил санаторий и направлялся к себе на работу, по пути завернув в наш госпиталь.
Наше постоянное общение в Каунасе располагало к доверительным отношениям, дружеским и тёплым. Мы стали уже скучать, не видя друг друга. Теперь мы работали по соседству, но виделись очень редко. Постоянная связь была налажена через письма, которые мы писали ежедневно в виде дневников. Передавали их через попутчиков, выполнявших различные служебные поручения, они-то и заезжали к нам в госпиталь.
Шестого февраля наши войска блокировали все дороги севера и запада Восточной Пруссии и отрезали её от Германии.
При освобождении Восточной Пруссии от фашистов Красная армия взяла много пленных, в том числе раненых. Наш госпиталь в ночь на 16 января был срочно перемещён из Каунаса в приграничный город Кибартай в 96 километрах от Литвы, так как возник огромный поток раненых.
Но уже 22 января нас переводят в только что освобождённый от фашистов город Бартенштайн. В нём сохранились казармы и отдельные особняки около них. По своим размерам они подходили для развёртывания нашего большого госпиталя.
В Бартенштайне мы проработали около двух месяцев, когда был освобождён город Тапиау вблизи Кенигсберга. Все наши переезды были вызваны активизацией военных действий и увеличением количества поступающих раненых. После Тапиау мы вновь работали в Бартенштайне.
В этот период ещё практиковалась посылка отдельных бригад из штата госпиталя в медучреждения, в которых был особенно большой наплыв раненых. 5 апреля мы вновь переезжаем в Тапиау и остаёмся там до конца войны, встречая День Победы. Госпиталь размещали в приемлемых для нас зданиях, где наши хозяйственники быстро восстанавливали водоснабжение, свет и тепло, и госпиталь начинал свою работу по приёму раненых.
Состояние здоровья нашего подопечного оставляло желать лучшего. После простуды началось осложнение на лёгкие, но он не оставлял работу. 18 февраля его консультировал ведущий терапевт СЭГа М. Ф. Гольник. Он возвратился в госпиталь и зашёл к нам, чтобы сообщить нам о результатах осмотра. Он же привёз нам страшную весть о гибели И. Д. Черняховского от осколочного ранения.
Очевидцы сообщили о его гибели следующее. Командующий фронтом часто бывал в частях, проверяя их готовность к действиям, и оказывал им необходимую помощь. В этот день с утра он был в одной из частей у линии фронта и возвращался в штаб к вечеру. Иван Данилович очень устал, попросил адъютанта поменяться местами и пересел на заднее сидение, чтобы подремать в дороге. Машина быстро двигалась по свободной дороге, и вдруг позади разорвался снаряд. Осколок пробил заднюю стенку машины и ранил Ивана Даниловича в спину, застряв у него в грудной полости. Больше никто в машине не пострадал. Черняховский вышел из машины и сказал адъютанту: "Спасайте меня, я ещё могу быть полезен в войне!". Срочно вызвали врачебные бригады, в том числе из нашего госпиталя, но, к сожалению, помочь ему не могли. Ранение оказалось смертельным.
Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник И. Д. Черняховский похоронен 20 февраля 1945 года в Вильнюсе.
(В печати опубликована несколько иная версия гибели Ивана Даниловича, но нам тогда сообщили эту.)
Приближались майские праздники 1945 года. К обычным праздникам 1 и 2 мая в 1945 году добавлялись знаменательные даты, связанные с окончанием войны. 4 мая пал Берлин, Красное знамя СССР было водружено над рейхстагом.
В Европе заканчивался период фашистской оккупации. С помощью нашей победоносной армии одна за другой страны вновь обретали самостоятельность. Германия капитулировала. Военные действия были прекращены. Мир отмечал День Победы!
Но после этого ещё долго шли отголоски войны. Оставалось много смертоносного оружия, неразорвавшихся снарядов, бомб, заминированных зданий. Случались выстрелы недобитых фашистов из-за угла. В отделениях оставались тяжелораненые, получившие свои раны раньше. Поэтому наша работа ещё продолжалась, хотя и не в таком объёме. Сократилась продолжительность рабочего дня, работали днём, а ночью оставался дежурный врач.
Мне осложняло жизнь состояние здоровья, подорванного отравлением консервами. Это было, конечно, пищевое отравление, характер симптомов не подходил ни к какому инфекционному заболеванию. Так как я фактически не лечилась, есть просто не могла, я прогрессивно слабела, но продолжала работать. В конце концов меня как носилочную больную госпитализировали и лечили. Я попала в отделение абдоминальной хирургии к Дине Лазаревне Цирлиной. Поместили меня в отдельную палату, так как других женщин в отделении не было. Была весна, чудесная солнечная тёплая погода, цвела сирень. Ею и множеством других цветов был окружён каждый домик. Пролежала в палате я недолго. Потом попросила, чтобы меня перевели работать в абдоминальное отделение, куда стали поступать пациенты уже мирного времени с аппендицитами, язвами и прочими заболеваниями.
Пришло время и мне вспомнить мирную хирургию. Я не соприкасалась с такими больными все четыре года, занимаясь ранениями нижних конечностей. Меня перевели, и я стала работать, продолжая жить в своей же палате.
В отделении лежали и очень тяжёлые раненые с проникающими ранениями в грудную полость. Большинство из них были с открытым пневмотораксом, с какими-то трубчатыми приспособлениями. В этом хорошо разбирались врачи и сёстры отделения, но не я, так как ни до войны, ни во время - я с этим дела не имела. Предпочитала вести больных с другими заболеваниями. Сделала даже одну операцию аппендэктомию, слава богу, прошло всё хорошо.
Также в отделении была небольшая палата, в которой лежали ожоговые больные. Это были четыре танкиста. Ожоги они получили в последних боях с фашистами, когда их танк был подбит вражеским снарядом и начал гореть. Экипажу танка удалось вылезти из него, но их одежда была объята огнём. Товарищи из находившихся рядом танков помогли им сбить пламя и отвезли в госпиталь. У них были обширные ожоги с большим поражением поверхности тела, лица и конечностей. Кроме болевого синдрома присоединились явления общей интоксикации организма. Они лежали обнажённые, без повязок, под особыми приспособлениями в виде полукруглых колпаков, внутри которых были включены электрические лампочки. Они обеспечивали тепло и "лечили", способствуя образованию раневых корок, под которыми шла эпителизация раневых поверхностей. Всё это требовало от медицинского персонала кропотливого ухода и внимания.
В отделение продолжал наведываться наш бывший пациент Николай Михайлович Зиновьев. Я познакомила его с Диной Лазаревной и её мужем. Они симпатизировали друг другу и вошли в круг наших друзей. Николай Михайлович знал некоторые подробности работы нашего отделения, в том числе и о танкистах с ожогами. В один из дней в отделение приехала группа из штаба бронетанковых войск III Белорусского фронта во главе с командующим генерал-полковником Родиным. Они прошли в палату, где лежали танкисты с ожогами. Командующий вручил им всем наградные удостоверения с орденами.
После огромной перегрузки в работе в течение всей войны сейчас мы "отдыхали", имея и выходные дни, и нормальный рабочий день. Использовали свободные дни для отдыха на природе. Благодаря Николаю Михайловичу мы сумели познакомиться с достопримечательностями Восточнй Пруссии, побывав на освобождённых нашей армией местах. Были в Кенигсберге, к сожалению почти полностью разрушенном в результате ожесточённых боёв.
Во второй половине июня зам. начальника госпиталя по медицинской части подполковник Д. С. Соколов предложил мне путёвку для лечения в Ессентуки. Путёвка была в военный санаторий, считавшийся лучшим на курорте, и я очень надеялась получить для себя пользу. На дорогу из Восточной Пруссии до северного Кавказа оставалось четыре дня. С помощью Николая Михайловича меня отправили до Москвы на военном транспортном самолёте. Я никогда до этого и после - в течение всей жизни на самолёте не летала. Члены экипажа стояли у огромного самолёта, всю войну перевозившего грузы. Они смотрели на своего необычного пассажира и о чём-то говорили. Внутри самолёта особого комфорта не было. Я устроилась на жёстком сидении у небольшого круглого окна в надежде увидеть землю с высоты небес. Но кроме чистого голубого неба ничего видно не было. Часов через пять мы приземлились на московском аэродроме. И тогда я узнала, о чём говорили лётчики перед моей посадкой в самолёт. Они ждали неприятностей во время полёта, так как женщина на борту приносит несчастья в полёте! Слава богу, я им этого не принесла, и мы расстались, дружески пожав руки.
Помощник Николая Михайловича встретил меня у самолёта и вручил мне билет на поезд. Он отбывал из Москвы вечером того же дня. В оставшееся время я не смогла даже попасть к себе домой и провела его в семье своей тёти, повидавшись с ними впервые за всю войну. На южный курорт я была вынуждена ехать в своей военной форме с шинелью в руках. Кроме одного летнего платья, в котором я была 24 июня 1941 года, и путешествовавшего со мной всю войну, у меня ничего не было. Когда я ехала в дачном поезде "Мин-воды - Ессентуки, "мой "боевой вид" вызывал насмешливые взгляды разодетых в крепдешин попутчиц.
К сожалению, от комфорта "лучшего военного санатория" остались лишь старые стены. Обслуживание, лечение и питание оставляли желать лучшего. Поместили меня в двухместную палату. Женщин были единицы, и то жёны военнослужащих. Из врачей я видела за всё время только троих: начальника санатория, его заместителя по лечебной части ("заслуженного старца") и женщину-врача, тоже из жён военных, которая разговаривала со мной за весь срок пребывания три раза, и то по моей просьбе. "Лечение" мне назначили на другой день по прибытии - в грязелечебнице по талонам, которые мне принесла в палату медсестра. Процедур было две: ванна и аппликация грязи. На моё замечание, как же мне лечиться без осмотра врача, она ответила: "Берите! Талоны нам дают раз в неделю, иначе и их не будет". Питали нас в столовой три раза в день. В отличие от первых дней войны пшённая каша была заменена на манную, опять "без ничего" и почему-то холодную. Положено было два кусочка хлеба - ржаного и пшеничного ("серого"), к ним давался кусочек масла с чайную ложку и чай с двумя кусочками сахара! В обед жидкий суп с лапшой и котлета с макаронами. Овощей и фруктов вообще не было видно. Так что оставались свобода со второй половины дня и свежий южный воздух с далёких гор. Хочешь - спи, хочешь - гуляй! Компания для прогулок подобралась: жена военного корреспондента - соседка по палате, и капитан технических войск - сосед по столовой. С его помощью мы имели возможность покупать абрикосы у старой бабушки, жившей на окраине города. У её дома росло высокое старое абрикосовое дерево, плоды которого она могла срывать только с нижних веток. Наш капитан ловко на него влезал, срывал ягоды и сбрасывал их вниз, а мы собирали. Это доставляло нам и удовольствие и приносило пользу. Однако через две недели такого лечения у меня началось обострение моей болезни, я отказалась продлить срок лечения и уехала.
Числа 10 июля 1945 года на первой странице газеты "Известия" был напечатан указ, подписанный Сталиным, о повышении воинских званий высшему офицерскому составу. В нём были перечислены все рода войск, в том числе и медицинской службы. Встречались знакомые фамилии. В этом же указе была фамилия "нашего пациента" Н. М. Зиновьева. Он получил звание генерал-майора инженерно-танковой службы (ИТС). Несколько позднее я получила от него письмо, где описывалось, как было отмечено это событие, и даже приложена фотография с новыми погонами. Все перечисленные в указе занимали генеральские должности в течение почти всей войны, и на них своевременно заполнялись документы, необходимые для повышения званий. Но, видимо у Сталина не было времени в них разобраться.
 Николай Михайлович и я, будущая Зиновьева, перед демобилизацией.
Николай Михайлович и я, будущая Зиновьева, перед демобилизацией.1945 год. Бобруйск. |
По прибытии в Москву я узнала из писем Ани и Николая Михайловича, что СЭГ-290 и штаб фронта переведены в Белоруссию в город Бобруйск и ждут своего расформирования. Мне тоже предстояло ехать в Бобруйск. За время своего путешествия я узнала, как изменилась страна за четыре года разрушений, и сколько ещё потребуется сил для её восстановления. |
По приезде пошла в военкомат, чтобы всё оформить, стать вновь гражданским лицом и начать трудовую жизнь мирного времени. Мне дали направление на оформление инвалидности, от чего я категорически отказалась. В отведённый мне месячный отпуск я решила съездить в Пензу, где жили мои мать и сестра с детьми. По возвращении в Москву я узнала, что Николай Михайлович прислал за мной машину с шофёром, чтобы ехать к нему в Бобруйск встречать новый 1946 год. Мы выехали утром 31 декабря, приехали за час до встречи Нового Года и прожили до февраля, вернувшись в Москву вместе. Он возвратился на свою довоенную работу заместителем начальника Академии Бронетанковых войск. Я тоже пошла на свою прежнюю работу - в клинику к профессору В. Р. Хесину. Вениамин Романович посоветовал мне заняться более узкой специальностью, выделившейся из общей хирургии, урологией. Наш бывший ассистент в клинике доктор медицинских наук Л. И. Дунаевский получил уже звание профессора и работал в старейшей московской больнице, Басманной, на кафедре усовершенствования военных хирургов и заведовал урологическим отделением больницы. Он знал меня как студентку, а затем ординатора хирургической клиники. С ним я проработала с 1946 по 1968 годы, заведовала женским урологическим отделением, имела высшую категорию.
По возвращении в Москву в марте 1946 года мне пришлось ещё раз пойти в свой военкомат. В то время награждённым боевыми орденами полагалось выплачивать ежемесячно деньги. За мой орден "Красной Звезды" это было 15 рублей плюс бесплатный проезд по железной дороге один раз в год. Я сдала документы и ждала оформления. В это время вошёл мужчина лет тридцати и девочка лет семи. Одной рукой мужчина опирался на плечо своей дочери, он был слеп. Мужчина был чем-то возбуждён, как от радостного сообщения. Мы заговорили, и он сказал мне, что его вызвали в военкомат для получения награды - медали "За Отвагу", которую ему не успели вручить в связи с тяжёлым ранением. После лечения в госпиталях он возвратился домой в Москву. "Говорят, что к награде мне будут ещё выдавать ежемесячно деньги, они так нужны при моей тяжёлой инвалидности"
Такое постановление действительно было, но касалось оно только награждённых орденами, но не медалями. Как мне надо было об этом сказать, не разрушив его радужных надежд?! Ему сейчас об этом скажут в военкомате, нанеся ещё один моральный удар. Я осторожно намекнула, что это не совсем точно в отношении медалей. Мой собеседник как-то весь сник, пропало его радостное возбуждение, его надежда. Он с дочкой вошёл в кабинет, а я, получив свои документы, ушла, не узнав о нём больше ничего.
Мне вспомнились все мои бывшие пациенты - раненые, ставшие инвалидами после этой ужасной войны. Какие ещё удары судьбы им пришлось пережить!?